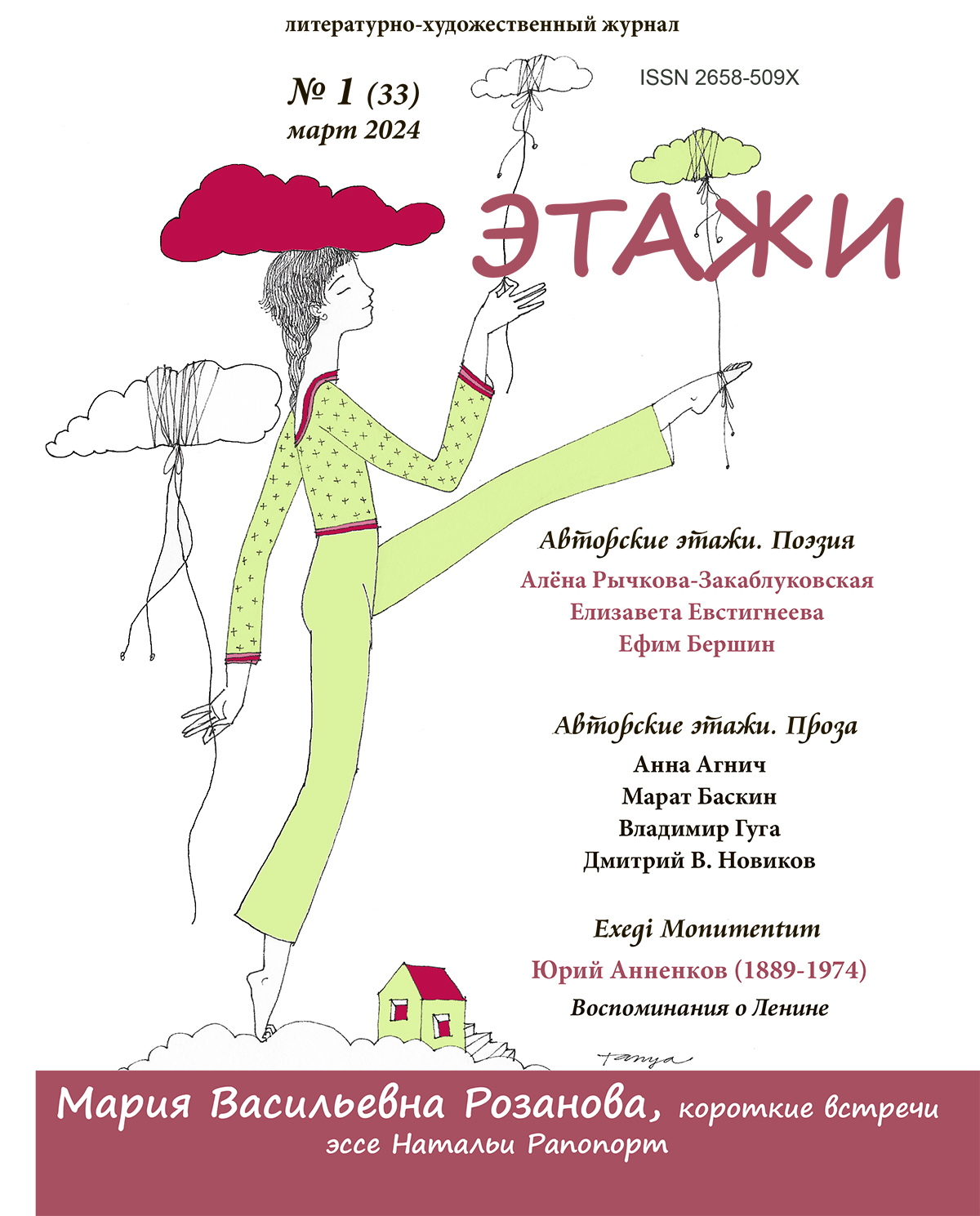Exegi Monumentum
ПопулярноСметает дворник листья под окном
 * * *
* * *
Со станции мы шли сосновым бором.
Двоюродные братья, горожане,
при виде шишек, ягод, мухоморов
от радости едва ли не визжали.
Я усмехался этому тайком.
Мне этот бор годами будет сниться,
за окнами являться, что ни вечер,
но позабудут сойки и синицы,
как звать меня,
как окликать при встрече,
а я тогда не думал о таком.
Я просто был большим и добрым богом,
когда мы шли сосновым медным бором,
и братья обмирали, задыхались,
как будто синяков своих касались
позеленевшим медным пятаком.
Склонюсь над длинным рядом тополиным,
ведь окна — вровень с журавлиным клином,
а лиственным и птичьим разговорам
обучен я у Веремеек бором…
Сметает дворник листья под окном.
Могилёвщина
То, чем мы дышим, расплавлено уже по колено,
пчела на этот воздух стала, отдышалась, отёрла пот с чела;
с морды пня, пузырясь, течёт розовая пена,
точно он, застоявшись, грызёт и грызёт удила.
Июль. Исступление есть в его неподвижности,
в растресканных серых губах пересохшего родника,
в сойке, разинувшей рот — ей тоже едва дышится,
меня она ненавидит, а крикнуть не может никак.
Так среди тусклой жары разливается тихое бешенство,
будто глухо ворочаются в тучах и под землёй голоса,
оборачиваюсь — берёзы, пыльные, как беженцы,
опустили плечи, опустили руки, опустили глаза.
Тихо, всё тихо, говорю я себе, ну что ты —
это просто жара с духотой оседают на мозг золой,
никому же не скажешь, что мёртвый июль сорок первого года
каждый год в это время смотрит с неба, ворочается под землёй.
Не поверят, что время не прямо, что оно в узлах и прорехах,
что видны тебе красные клочья, летящие с чёрных уст коней,
и невидимый на солнце огонь, его пляска на соломенных стрехах,
и мёртвая на обочине, и белая хустка на ней.
* * *
Весёлые дела!
По рельсам, по стране
качу, как захочу,
в гулёж очередной —
а станция Зима
протягивает мне
замасленный кулёк
с картошкой отварной…
Я выставлю в окно
беспутную башку
на ветер и мороз —
пущай охолонёт…
А станция Зима
по чахлому снежку
бежит и машет мне —
вот-вот в окно впорхнёт…
Там ирис впереди
пестреет, как удод,
соцветиями губ
пылают мне юга…
Да шла бы ты, Зима!
И что ж — она идёт,
как верная жена,
отстав на три шага.
Как сладок мой побег!
Как радуется мир,
объятья распахнув
встречающий меня!
И высадит меня
уже через полдня
на станции Зима
румяный конвоир…
* * *
Белозёров Сергей Алексеевич,
тридцати с незначительным лет,
терпеливо пытался отсеивать
сор от хлеба и счастье от бед.
Сито билось, как сердце, порывисто,
он не первый надеялся год,
что на донышке по справедливости
золотая крупица блеснет.
Ну, а жизнь — без старанья излишнего —
убеждала его: через сеть
не пройти ее тяжким булыжникам,
да и лебедю не пролететь.
Он не верил, шатаясь от голода,
он стоял на своем, как всегда,
и сжимал в кулаке свое золото,
а когда разожмет — пустота…
Он с долгами никак не расплатится,
он скитается по городам,
только сито дырявое катится
по пятам, по пятам, по пятам…
* * *
Оле
…Бестолковая моя, ласонька!
Дела наши хоть немного, но лучше плохих:
взгляни — забор щербат, как улыбка первоклассника,
ему хорошо — рядом с ним такие же, как мы, лопухи.
Коробка нашего дома пропахла пелёнками и подгузниками,
ящик нашего земного шара пока еще держится в швах,
порой даже можно купить чего-нибудь вкусненького,
если, конечно, сэкономить на моих штанах.
Болтали, что кто-то живёт и лучше, нежели мы,
зато общая лямка счастья прижимает твоё плечо к моему плечу,
и веснушчатое солнце к одной тебе лезет с нежностями,
а я посмотрю на тебя, задохнусь от любви – и молчу.
* * *
Ты меня обвеваешь дыханьем волос, ты меня обвиваешь
как горох или хмель или плющ обвивают опору,
ты меня отнимаешь у всех, кого знать довелось,
ты меня отменяешь: я не жил до сих пор, я живу в эту пору
когда
ты меня обнимаешь…
* * *
Слышишь, не забывай меня,
счастье неназываемое,
рыжая полонянка
рощиц яснополянских!
Крикни мне из столиц твоих:
помнится ли и длится ль
нежность ослепших листьев,
трогавших наши лица?
Перешепчи по почте
почерком удивленным:
что тебе этой ночью
шепчет звезда над кленом?
Снова я с этим, с этим,
с этим, что отболело,
точно полоска под сердцем,
мертвенно побелело.
Светом былых галактик
светит былое чудо…
Запахивая халатик,
резко звякнув посудой,
ты обернись — не зовут ли? —
к окнам своим замерзшим,
словно от боли смутной
ясный свой лоб наморщив.
Где-то в большой державе,
нас разделившей стольким,
звезды мой лоб прижали
к черным морозным стеклам.
Чтоб и теперь делиться
радостью и бедою
белых незрячих листьев,
тающих под ладонью…
Тише, милая, тише:
туфельки спят в прихожей,
спит за стеной сынишка,
не на меня похожий.
Спит и твой муж, уставши,
ты же его разбудишь…
Не забывай меня, даже
если меня забудешь.
* * *
Захолонуло, похолодало,
ветром ударило сквозь пальтецо —
точно сквозняк потянул из подвала,
или товарный мимо вокзала
так прогремел, что немеет лицо!
Ветер и холод, холод и ветер,
полная воля невольным слезам…
Что, дорогой, неуютно на свете?
Всё это жизнь, и она не в ответе,
ты выбирал её, помнится, сам.
* * *
И тьма грозы, и света всхлип, и снова
об ветер в муке бьется мокрый куст,
как Лермонтов, не находящий слова,
косноязычен и молниеуст.
И метрах в трех от тяжких эшелонов
тоскливый взгляд сквозь сердце пролетит —
там беззащитно, как Андрей Платонов,
обломанная яблоня глядит.
И двойствен мир. И это — не подмена.
И в Комарове властвует весна,
а в стороне, прекрасна и надменна,
стоит она — Ахматова, сосна.
Не камень, а живая жизнь святыня.
Душа не расточается во тьму.
Моя страна доныне не пустыня.
И я вам объясняю, почему…
Ночное небо
…Город лежит ничком в ночи,
как аэродром — в огнях,
и старый тополь
винтом стучит
над рыжим виском окна.
В изношенном
кожаном пальто,
в пивной у базара,
ты
пьешь, растягивая каждый глоток,
как раньше — метр высоты.
Пьешь,
проклиная эту корчму,
страшную, как кабала,
и то, что осталось —
уже ни к чему,
как мокрая сдача с рубля.
Осталось выйти в осеннюю муть
и думать, губы кривя,
что можно запросто не дотянуть
на этих птичьих правах,
что можно запросто полететь,
вываливаясь из мглы,
и ощутить на своем лице
черные губы земли.
И, разучиваясь кричать,
сделать последний шаг,
и вся земля,
как кусок калача,
за пазухой будет лежать…
Воспомниная о Сергее Белозёрове

Сергей Белозёров родился 10 июня 1948 года на Дальнем Востоке, где служил в лётном полку его отец. Через некоторое время Белозёровы переехали на родину, в Белоруссию, а затем в Тулу, которая стала настоящей родиной Сергея. Печатался как поэт в основном в местных тульских и иркутских газетах, отдельные публикации — в журналах «Нева», «Огонёк», в сборнике издательства «Молодая гвардия». В 83-м году оказался в ссылке на станции Зима Иркутской губернии. В 1989 году в Туле вышла его первая и последняя книга «Словарь далей». Работал военкором на войне в Приднестровье, где едва не расстался с жизнью, был контужен, получил многочисленные травмы. Умер 12 ноября 2002 года в Туле на 55-м году жизни. Посмертно стихи опубликованы в журналах «Арион» (Москва), «Новый мир» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), альманахах «Иркутское время» (Иркутск), «Тула», антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было» и других изданиях.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи