Поэзия
ПопулярноДорога из солёных помидоров
Дорога из солёных помидоров
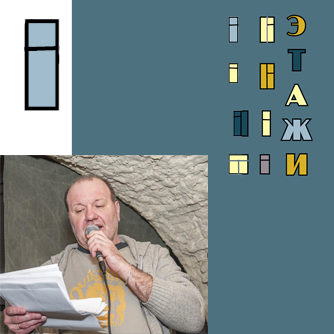 Когда становится январисто и грустно,
Когда становится январисто и грустно,
скрывая за повязками лицо,
зима бредёт дорогой огурцов,
давя их тоннами без жалости и хруста.
Не стоит их считать, жалеть их тоже глупо,
засоленных хозяйкой на бегу
в каком-то там двухтысячном году
среди тарелок с холодцом, рагу и супом.
По ним скорбеть? С чего бы, Бога ради!
Обмененных под осень «баш на баш»,
размером не длинней, чем карандаш
и цветом, словно наши танки на параде,
при этом огурцы хоть что-нибудь, да весят.
По спринтерски они берут разбег,
на каждом пятна, может, это снег,
но может быть, что это соль и даже – плесень,
такая пестрота от края и до края.
Забыв про осторожность и расчёт,
дорога огуречная течёт,
зима идёт по ней, ругаясь и вздыхая,
поскольку знает, что пока ещё не скоро,
но всё же кончится, в конце концов,
дорога из солёных огурцов…
А там дорога из солёных помидоров.
Пастернаковское
Когда-нибудь, но ты придёшь ко мне,
без лишних слов, без всяких «да» и «не»,
без фикуса в горшке, без слёз, без мандаринов,
без пузырька с лавандовой водой,
придёшь ко мне сама и станешь той,
которой выпадет задёргивать гардины.
Закроется навек сквозной проём,
за окнами всё порастёт быльём,
замрёт, весна растопит лёд в стаканах с ромом,
на целом свете будем только мы –
последние солдаты той зимы,
лишь я и ты, и больше никого, кто кроме…
Прощание
Лёгкий взмах руки, и голову с плеч,
мир, конечно, жесток, но не плох,
ты давно онемел и оглох,
уплывай, давай, навсегда:
слева рыба-сом, справа рыба-лещ,
сверху небо, внизу вода.
А не хочешь плыть – катись колесом,
даже если теперь глух и нем,
ты же чувствуешь – кто, видишь – с кем,
и, конечно же, знаешь – где:
справа рыба-лещ, слева рыба-сом,
впереди круги на воде.
Инне
Пора молиться ноябрю, перебирая дни и чётки.
Послать остатки лета к чёрту, как недопитый ночью брют.
Украсить картами досуг, перемежая смех слезами
в пустом домишке под Рязанью, который к Рождеству снесут.
Осталось солнцу полчаса, откалиброваны метели,
вчера дожди по крышам пели и прославляли небеса.
Висит в углу иконостас с изображением улыбок,
осенний воздух слишком зыбок, чтоб рассмешить до смерти нас.
Последний луч торчит штырём у деревенского погоста.
Поймём, менять себя непросто, и холода переживём.
Крокодил, медвежонок и я
Здесь пионы цвета крови, что течёт с утра по венам,
Ночью истину в стакане, каждый третий находил.
Мой сосед по даче слева, как в мультфильме, тоже Гена,
И такой же меланхолик, и такой же крокодил.
Не играет на гармошке, а ведь, смог бы, если надо,
Видно, просто нет стремленья, недосуг и не с руки.
У него на первом месте, разумеется, рассада,
На втором – культурный отдых, если проще – шашлыки.
Здесь клубника выше ели, это повод для раздумий,
Я бы выкопал заразу, да привык к ней за года.
Мой сосед по даче справа, этим летом тихо умер:
Лёг, уснул и не проснулся, так бывает иногда.
Он всю жизнь пахал как лошадь в небольшом каком-то чине,
Не щадил себя и близких, надрывался что есть сил.
Был похож на медвежонка, жил, как классики учили:
Дом построил, сына поднял, и берёзку посадил.
Здесь малинник – не продраться…
О простых вещах
Лето. Ночь. Простые вещи.
Соловьи свистят вразнос.
Не дорос ещё до женщин,
И до водки не дорос.
Мне тринадцать. Стынет ужин.
Пыль на лампе. Тусклый свет.
Не дорос ещё до службы,
Не дорос до сигарет.
Мне тринадцать. Мне не спится.
Ночь. Забор. Калитка. Сад.
Соловьи – шальные птицы
Рассвистелись невпопад.
Там, где тонко, там и рвётся
(это позже), а пока
Я всю ночь читаю Бёрнса
В переводе Маршака.
Я всю ночь прощаюсь с детством
Под весёлый перевод.
Никуда уже не деться:
Ночь, луна и огород.
На стене следы протечек.
На стекле прилипший лист.
Детство. Жизнь. Простые вещи.
Соловьиный пересвист.
Свита
ему вчера грозила нищета,
грозила пальчиком, закованным в перчатку,
и ей самой от этого не сладко,
когда за сорок нищета уже не та,
она за ним ходила до вчера,
не слишком их любовь на свете задержалась,
но всё же, пальчик вызывает жалость –
с перчаткой вместе тоньше ножки комара,
сегодня нищеты под боком нет,
в квартире слева безысходность вяжет свитер,
она остаток королевской свиты
на этой самой развесёлой из планет.
Трамвайные гномы
Мне нравился трамвайный перестук –
особый звук металла по металлу
от сотен молоточков, бьющих в такт,
тогда ещё не вымерших ватаг
трамвайных гномов моего квартала,
где каждый был товарищ или друг,
мелодия, звучащая вокруг,
для пацана, поверьте мне, немало,
а дело было вовсе не в ментах,
попутчиках, кондукторшах в летах,
коль трёх копеек на проезд хватало,
пусть каждый гном не покладая рук,
бил молоточком, выводя – тук-тук
над рельсами, от рынка до вокзала,
теперь билет не купишь за пятак
другие времена и всё не так,
и гномов тех давным-давно не стало.
Мелодии рождаются не вдруг.
Феи дырявых носков
Мои носки отличны от твоих. Смотри:
твои дырявые, мои плотней их,
в твоих играют на валторнах феи
носочных дыр. Мне кажется, сейчас их три.
Не много ли для ног? Я знаю лично двух,
про третью фею ничего не знаю.
Твои носки, наверно, из Китая,
как впрочем, и мои. Я ткань ловлю на слух,
не так, как все, что смотрят больше на состав
и на фасон. А как состав проверить?
Для фей носков не открывают двери,
достаточно окна. Лишь феям волю дав,
умаешься от их валторн. Кто их считал?
А дыры видно! Мне же важен шелест
моих носков от Палеха до Гжели
без фей с валторнами, а в шелесте – металл.
 Михаил Минаичев. Родился в 1962-ом году в Москве, где и живет поныне. Получил два образования: инженерно-строительное и кинологическое. Жена. Дочь. Двое внуков. Две собаки. Поэзией увлёкся в тринадцать лет: "Мне повезло, была отличная библиотека, самое примечательное, это книги поэтов серебряного века (такие тонкие брошюры в мягком переплёте), изданные в начале двадцатого века. Там были стихи, которые невозможно было найти в советское время. Я познакомился с творчеством поэтов, стихи которых не переиздавались, и не изучались в школах. Я помню, какое огромное влияние на меня оказали Клюёв, Агнивцев и Северянин. Их стихи разительно отличались от тех, что вдалбливались в школе. Можно сказать, что для меня поэзия начиналась не с Пушкина, а с поэтов серебряного века, причём с тех, которых принято называть поэтами «второго ряда». Два года впитывал, а в пятнадцать лет начал писать сам, впрочем, как многие в том возрасте, но в отличии от многих, пишу до сих пор."
Михаил Минаичев. Родился в 1962-ом году в Москве, где и живет поныне. Получил два образования: инженерно-строительное и кинологическое. Жена. Дочь. Двое внуков. Две собаки. Поэзией увлёкся в тринадцать лет: "Мне повезло, была отличная библиотека, самое примечательное, это книги поэтов серебряного века (такие тонкие брошюры в мягком переплёте), изданные в начале двадцатого века. Там были стихи, которые невозможно было найти в советское время. Я познакомился с творчеством поэтов, стихи которых не переиздавались, и не изучались в школах. Я помню, какое огромное влияние на меня оказали Клюёв, Агнивцев и Северянин. Их стихи разительно отличались от тех, что вдалбливались в школе. Можно сказать, что для меня поэзия начиналась не с Пушкина, а с поэтов серебряного века, причём с тех, которых принято называть поэтами «второго ряда». Два года впитывал, а в пятнадцать лет начал писать сам, впрочем, как многие в том возрасте, но в отличии от многих, пишу до сих пор."
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

