Поэзия
ПопулярноПисьмо на стекле
* * *
Без меж свiт твоiх очей.
С. Вакарчук
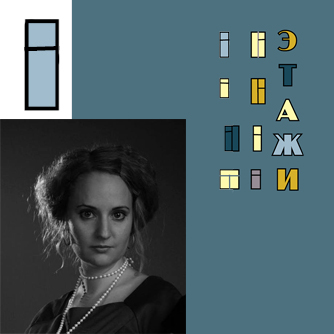 Белолунные над лужами
Белолунные над лужами
ливни, ливни в летнем месяце.
Принеси сухое к ужину,
обниму тебя на лестнице.
Никого уже из прошлого,
говорю, почти что вечная, —
только кружево и крошево
в ожидании до вечера.
Дневники, грехи, сомнения,
поддавки, зароки, правила.
Скоротаем путь к Альцгеймеру
через ярмарку тщеславия,
Здесь в столетьях тают окрики
потаскух и чернокнижков.
И пророк с повадкой плотника
возлюбил меня, как ближнюю.
* * *
Минута тишины моей, три лета:
ни лирики, ни смерти, ни души.
И Бога нет, как верного ответа
и голоса, шепнувшего «дыши».
Минута тишины, покуда хочешь
забыть о прошлом, и не пишешь год.
Но память, что парфюм с мужской сорочки,
заводит на предельный оборот.
Минута тишины, сквозь пешеходный
летишь за сто, прильнув лицом к рулю.
— Ты счастлива, родная?
— Я свободна.
И больше никогда не полюблю.
* * *
И ты говоришь мне: солнце, тяжкая ноша,
когда тебя наконец уже укокошат.
Приеду, окрашу крест, посажу сливы.
А я улыбаюсь: лучше сделай счастливой.
И ты отвечаешь: с юга Первопрестольной
до севера Питера, как такси на простое,
шумит река времён, проплывают годы,
пора и нам с тобой сбавлять обороты.
А я шепчу: цветочек мой, мать-и-маче-
ха-хочем, значит, точно сейчас не плачем.
Есть ты и я, и така.., разве хватит слога,
любовь, будто греешь руки в ладонях Бога.
* * *
Спустись за Голуазом и хурмой
минут на десять.
Я долго буду звать тебя домой,
и год мне — месяц.
Чревато доверять календарю,
сказал бы Ницше.
И я себе такое говорю,
раз ты не слышишь.
Свободный друг мой, главное, прости,
поймешь попозже,
что у сидящих летом взаперти,
мороз под кожей.
Что там, где твой уход невосполним,
как всякий выбор,
зовется город именем твоим
на речке Тибр.
* * *
Утро начинается со Scorpions,
спит шестой стрелковой рядовой.
Русская сестричка из медкорпуса
оформляет «груз» на спецконвой.
Проводив машины в штаб дивизии,
на солдата взглянет, в горле ком.
Никогда таких, как он, не видела,
с юности мечтала о таком.
«Ангел в белом платье с красной вышивкой», —
шепчет рядовой ей в полусне.
А сестра беззвучно: «Только выживи,
я с тобой хочу не о войне».
* * *
Киргизский дом, и журавли летят
над узловатым скрестом горных рек.
Пока светло, идет работать в сад,
когда стемнеет, — в сени на ночлег.
Готовясь к самой странной из утрат,
стареет дорогой мой человек.
Как тихое прощание легки,
едва от слова к слову горячей,
его междугородние звонки.
Оставит мне печальный книгочей
одно прикосновение руки,
и нежности на тысячу ночей.
* * *
Заклинательница чувствами,
не суди о водах с пристани.
Я с тобой ещё хочу с тобой
на заливе пить игристое.
Тихо-тихо в этой вечности.
Пахнет берегом и травами.
Или каплями аптечными,
точно счастье от лукавого.
Из священного писания
«аз воздам» волной уносится.
До того, как мы расстанемся, —
три весны, четыре осени.
* * *
Не от мира сего, — часто слышу я вслед,
и почти каждый день: мама, что на обед, —
от певучей звезды, согревающей дом,
(дай мне сил эту дружбу сберечь на потом).
Что я слышу еще, выходя за порог,
неужели другой столько выслушать мог.
Словоформы, подсказки, сарказм неумех,
и отчаянье сквозь ученический смех.
А войну? Нет, не слышу, смотрю, как горят
золотые тела институтских ребят...
В феодальном костре, где не видно ни зги,
я молюсь, но едва ли вправляю мозги.
И евангельский дар мой, — письмо на стекле,
что на птичьих правах цепенеет в тепле,
до тумана сгущая свое естество
в человеческий вздох с сотворенья его.
Словно я до сих пор, между сном и виной, —
не от мира сего, — вместе с этой страной:
в беззаконии, рабстве, глухой нищете,
без щита. Нет, верней, на щите.
* * *
Устав от святости и нечисти, —
двойняшки, как легко без вас, —
подслушиваешь плеск кузнечиков
и пьешь взахлеб текущий час.
По дому в скуке послоняешься,
минуты, сладостней конфет,
переберешь во рту, как камешки,
свободный час за тридцать лет.
Заглянешь в сад, не жалко времени,
а там, прижав ладонь к щеке,
малышка, что дурному верила,
спокойно дремлет в гамаке.
* * *
Пожалуй, вино и Шуберт
чаруют за полчаса,
когда в высоком бушует
гроза на низких басах.
Едва все мои веснушки
соленым ртом сочтены.
Усни, молодое чувство,
пригревшее со спины.
Пусть ночь тревоги рассеет,
как бурю в Петродворце,
созвездьем Кассиопеи
сверкнув на моем лице.
Речь
Пока еще день настоящий светел,
и теплится в сумерках жизнь земная,
мне кажется, легче забыть о смерти, —
о том, что умрешь, — чем тебя, родная.
Пока еще я, избегая встречных
вопросов, мурлычу твои, что гамму,
мне кажется, сквозь глухоту примечу
тебя в эмигрантском кафе Потсдама.
Пока еще всплеск в сетевом вещаньи, —
стихи на канале «для сумасбродов»,
мне кажется, вечность меня прощает
за то, что мой Бог не мужского рода.
 Марина Немарская. Поэт, преподаватель. Публикации: «Вечерний Петербург», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», «Особняк» и др. Лауреат Международного конкурса Эмигрантская лира, Открытого Международного чемпионата Балтии по русской поэзии – 2016. Живет в Санкт-Петербурге.
Марина Немарская. Поэт, преподаватель. Публикации: «Вечерний Петербург», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», «Особняк» и др. Лауреат Международного конкурса Эмигрантская лира, Открытого Международного чемпионата Балтии по русской поэзии – 2016. Живет в Санкт-Петербурге.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

