Проза
ПопулярноОстановленный мир. Виктор и Тина
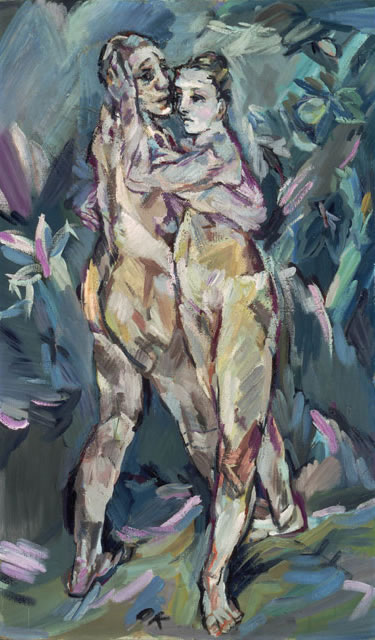
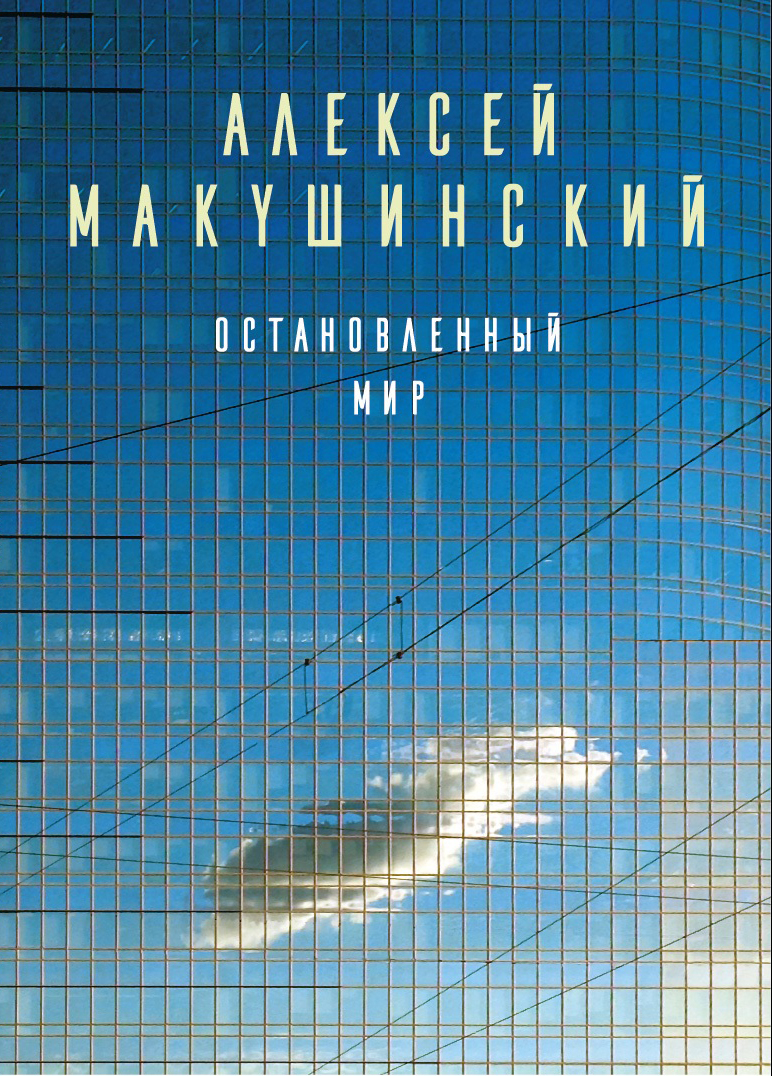
В издательстве «Эксмо» в феврале 2018 года вышел роман Алексея Макушинского «Остановленный мир». Это роман-медитация, роман-просветление, роман-коан. Как гласит аннотация к книге: «Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка».
В центре повествования история общения рассказчика с главным героем, Виктором, весть об исчезновении которого и послужила импульсом к раскручиванию воспоминаний о встречах с ним и времени увлечения их обоих дзен-буддизмом. И в том, как роман написан, ощущается световой поток — нечто большее и внешнее, на уступку чему идет автор, позволяя действовать через себя. Он становится проводником памяти, он останавливается и смотрит, и мир тоже останавливается.
Отрывок из романа
***
Назавтра он позвонил ей и очень сильно заикаясь — заикаясь так по-немецки, как обычно заикался по-русски, — сумел сказать, что ее фотографии произвели на него впечатление необыкновенное, что он прямо влюбился в них — формулировка, им заранее найденная, — прямо влюбился в них, в фотографии, и был бы счастлив увидеть еще... еще... тут он сбился... еще какие-нибудь другие, да, фотографии, фотографии, да, другие какие-нибудь, которых еще не... не видел он... и увидеть ее саму, Тину, да, вот, вот так. Она была удивлена. Она ничего подобного от него не ожидала, вообще о нем и не думала. Она сразу поняла, что не в фотографиях тут дело. Ей это польстило и ее позабавило. Как-никак ей было сорок, ему — она не знала сколько, но явно меньше тридцати (ему было двадцать шесть в том году). Он был для нее мальчишка. Все-таки она сперва повернулась к нему своей неприступною стороною. У нее будут еще выставки, сообщила она равнодушным голосом, про себя улыбаясь. Когда? Ну, когда-нибудь... Долго ждать, произнес он в трубку, понимая, что уже все равно, все потеряно. О‘кей, что ж, заходите при случае, kommen Sie mal vorbei (что тоже звучало отнюдь не как приглашение). Они договорились, однако, о встрече — которую два раза переносила она, вовсе не потому, что хотела ее перенести или вообще отменить, наоборот: чем больше она думала о Викторе, тем больше ей хотелось снова увидеть его безумные осмысленные глаза, но потому, что так складывались обстоятельства, оба раза ей нужно было ехать на срочную съемку для денег, и уже он, Виктор, не верил, что они вообще встретятся, и скорее всего не перезвонил бы ей; на сей раз она сама ему позвонила. Получилось так, что теперь она зовет его к ней зайти. Они это оба почувствовали, да так это, в общем, и было. Поэтому она очень была смущена в тот вечер, когда он дошел до нее; сильнее была смущена, чем если бы не было этих двух несостоявшихся встреч, звонков, извинений, новых попыток найти подходящее обоим время; смущение, которое он мог толковать в свою пользу, или она думала, что он может его так толковать, отчего это смущение только усиливалось. В сущности, он теперь чувствовал себя уверенней, чем она. Он отказался от кофе; сока у нее не было; дело кончилось водой из-под крана. Они оба мне рассказывали потом, что когда он посмотрел фотографии, развешанные по стенам, и фотографии отпечатанные, в больших папках, — фотографии, среди которых тоже немало было обнаженной натуры, Тине близкой и родственной, то есть этих, еще раз, рубенсовских (или, если угодно, кустодиевских) красавиц со всем их изобилием плоти, тайнами этой плоти, преображенной светом и ракурсом, но была и совсем другая натура, другие мотивы, пейзажи, — пейзажи, к примеру, индустриальные, заброшенные заводы с провалами черных окон, бетонные, друг за друга загибающиеся развязки автострад, под облаками, тоже как будто бетонными, щебеночные карьеры и камнедробильные установки, доменные печи и шатровые копры над шахтами, которые Тина начала снимать еще в пору своей учебы в дюссельдорфской Академии художеств, у Гиллы и Бернда Бехеров (о которых, как не трудно догадаться, Виктор и слыхом не слыхивал); — оба они мне рассказывали, что в тот первый вечер, когда он выпил воды и посмотрел фотографии (на которых и рубенсовские красавицы, и забытые миром газгольдеры восхитили его не совсем одинаково, но в одинаковой степени), довольно долго говорили они — обо мне; просто потому, что больше не о ком было им говорить; сидя, рядом с нею, вот на этом кожаном диване, на котором лежал я после встречи с пражскою галеристкой, Виктор, иногда заикаясь, рассказал ей, в общем, все ему обо мне известное (а известно ему было немногое, и ни моих стихов, только тогда начинавшихся, ни моего в ту пору единственного романа, с его скрытыми дзен-буддистскими мотивами и аллюзиями, он еще не читал); и значит, я незримо присутствовал, сам того не подозревая, при этом первом их рандеву. Оно могло стать и последним. То есть он просто не знал, как договориться о следующем. Тина, с видом деловой женщины, уже в прихожей, извлекши откуда-то календарь, сообщила Виктору, намеренно равнодушным голосом, глядя в его страдальческие, необыкновенные, безумно-осмысленные глаза, что в ближайшие дни она занята, и завтра занята, и послезавтра, и после-после-завтра, но что, вот, в воскресение, у нее будет время поехать куда-нибудь просто так, поснимать что-нибудь, поехать, например и если будет хорошая погода, на Рейн, да, прокатиться вдоль Рейна, и что если он хочет...
Каменоломня
Она не собиралась говорить ничего подобного (из-за полуотворенной двери рассказывала мне Тина) и уж точно не собиралась ни в какое воскресение ехать просто так кататься вдоль Рейна, и даже фотографировать там, на Рейне, что бы то ни было, во всяком случае, в его самой туристической, самой, прости Господи, романтической части между Майнцем и Кобленцом (а именно этот отрезок реки, с его замками, его скалами, его винодельческими городками, увиделся ей, внутренним зрением, когда произносила она, для себя самой неожиданно, деловым голосом, фальшиво перелистывая календарик, эту фразу в прихожей); оставшись одна и продолжая изумляться себе, подошла к окну гостиной (где только что сидели они вдвоем на кожаном черном диване, и недопитый им стакан с водой из-под крана стоял на журнальном столике, и свет дробился в этой воде), и глядя на соседний с ее домом зеркальнооконный небоскребик, на бюст Боливара внизу, спросила, у Боливара и у себя, что это значит, и почему вдруг на Рейн, по Рейну; догадавшись почему, почувствовала, что у нее горят и краснеют щеки; рассмеялась и рассердилась; и когда заехала за ним в Заксенгаузен (через сколько-то дней, на своем пижонском оранжевом «Гольфе» с откидной крышей), и они вернулись по воскресным пустым улицам все в тот же Вестенд, и выехали на висбаденскую автостраду, Тина, следя за дорогой, все продолжала себе самой удивляться и на себя же саму сердиться, и вновь чувствовала, что у нее горят щеки и портится настроение, и не уступающие дорогу другие машины действуют ей на нервы, и какого черта вообще затеяла она все это, какого черта едет на этот Рейн, где со школы, кажется, не бывала, с молодым русским, незнакомым ей и ненужным, и лучше бы все это уже закончилось поскорее. Сперва, от смущения, ни о чем не говорили они; потом говорили о банальном и постороннем, о том, как она, Тина, всегда хотела побывать в Петербурге, и какой это, говорят, прекрасный город, и в Москве тоже побывать она бы хотела, а еще больше хотела бы проехать по Транссибирской магистрали — мечта всех немцев, — и неужели он, Виктор, никогда не ездил по Транссибирской магистрали, и даже никогда не бывал в Сибири, не видел Байкала, быть того не может; еще говорили о том, что Виктор машину, увы, не водит, просто никогда не было у него ни машины, ни возможности водить ее, но что теперь он собирается записаться в автомобильную школу, и что автомобильная школа есть в соседнем с ним доме, и что, наконец, у него есть деньги на это, хуже со временем... Рейн между тем появился, автострада обернулась обыкновенной дорогой — между холмами с одной, рекой и ветлами с другой стороны. Были узенькие необитаемые острова на реке; закончились и они; Рейн открылся им во всей своей мерцающей широте. Но остановиться было негде, машины шли сплошным потоком и в ту, и в другую сторону; и по узенькой дорожке, зажатой между рекой и шоссе, шли и в ту, и в другую сторону спортивные пары, совершавшие свой воскресный променад, и ехали велосипеды, наезжавшие на гуляющих, и даже глядя на них из машины, становилось за них обидно, и непонятно было, какое удовольствие получают все они от прогулки в такой тесноте, таком грохоте, в такой военной, или тюремной, однозначности своего движения (шаг вправо, шаг влево — не побег, но шаг ни влево, ни вправо вообще невозможен...); и хотя Виктор с удовольствием смотрел на реку, мерцание реки, и радовался этой поездке в места ему до сих пор не знакомые, на велосипеде недостижимые для него, и еще больше радовался Тининой близости в тесном «Гольфе», взволнован был этой близостью, запахом ее прохладных духов, и глядя на реку, в то же время глядел на нее, сердито следившую за дорогой, и в этом мерцанье воды, мельканье велосипедов, ветел, пирамидальных, высоко в небо взлетающих тополей ее лицо, в профиль, было совсем не таким, каким было во Франкфурте, сердитым, но как-то по-детски сердитым, то есть неожиданно детским, беззащитным лицом, и ему это нравилось, его это трогало, — все же и он не понимал, что происходит и на что она сердится, и потому еще более был смущен и растерян; и в Рюдесгейме, до которого они дотащились, были сплошные праздные толпы, бродившие от одного переполненного ресторана к другому переполненному кафе, и в крошечных магазинчиках продавали местное вино, разрисованные кружки, раскрашенные тарелочки, весь набор туристских банальностей, и так переполнен был узенький городочек, что Тина даже не сумела поставить машину, развернулась, и поехала в обратную сторону в надежде, что где-нибудь освободится место для парковки, и развернулась еще раз, но места все не было, и они просто поехали дальше, так и не посидев в кафе и кофе не выпив; и после Рюдесгейма стало посвободнее на дороге, хотя долина реки еще более сузилась; появились первые скалы, первые замки на скалах; появился, исчез напротив Бингена, на впадении в Рейн реки Нае (Nahe) — чуть дальше за этим впадением — знаменитый островок со сторожевою башнею; и в теплом осеннем свете так покойно и мирно желтели виноградники на холмах; их ровные, вверх убегающие гряды казались Виктору, со счастливой улыбкой на них смотревшему, длинными строчками какого-то к нему обращенного послания, простого, стройного, ясного; но еще Тина продолжала сердиться на себя, удивляться себе, и банальность всего этого, этого разговора о Транссибирской магистрали, этого лакированного, туристского, из путеводителя и с открытки перенесенного в действительность Рейна (что есть действительность?) — банальность всего этого, помноженная на школьные воспоминания, оставалась для нее почти оскорбительной; и если бы дорога не была перекрыта и не был указателями обозначен объезд, то, вполне возможно, роман их закончился бы, не начавшись; но дорога, по счастью, была перекрыта, объезд обозначен. Объезд увел их наверх, в горы, в места довольно пустынные, совсем не похожие на долину Рейна, оставшуюся внизу. Когда же свернули они еще куда-то в сторону, чтобы уже совсем оторваться от всяких других машин, то очутились в местах пустыннейших, прямо диких, где только вдали, на холмах, появлялись, затем исчезали красные крыши, белые колокольни безымянных, затерянных в распахнутой пустоте деревень, а затем шли поля, и снова поля, ровной желтизною переливавшиеся на солнце, и зеленеющие холмы, и редкие, в красных пятнах, раскрашенные осенью рощицы, и большие, вихрастые, посредине темные и по краям светящиеся облака, неподвижно стоявшие над этими рощами и полями. За одной из рощиц, с дороги почти невидимая, но Тиной увиденная, обнаружилась — каменоломня, к которой, лихо затормозив, подъехала она по щебенке, зашебуршавшей под шинами. Каменоломня казалась заброшенной, хотя внизу, в глубине небольшого оврага, куда спускалась она уступами, виден был рыжий, с квадратными окошками, вагончик для рабочих и рядом с ним большие многогранные камни. Тина сперва фотографировала сверху и без штатива, потом сказала, что ей надо запомнить это место и приехать сюда поснимать спокойно и в одиночестве, она любит такие места, особенные места. Виктор ответил на это, что никуда не торопится. Она на это ответила своим всепонимающим (всепрощающим) коротким смешком, уже на выставке покорившим его. Они стали спускаться по разъезжавшимся под ногами камням. Спускаться было трудно. Он дал ей руку и повел ее, бережно, по едва намеченной, по осыпи наискось уходящей тропинке. Едва не упала она на него, соскальзывая с большого плоского камня, попавшегося среди мелких и сыпучих камней. Он удержал ее правой рукой и всем корпусом, в левой руке удерживая штатив. Он почувствовал тяжесть ее тела, и это возбудило его. Находя равновесие, она посмотрела на него удивленным и благодарным взглядом, сдающимся взглядом. Это было все же только мгновение. Он сел на один из камней у заколоченного вагончика, наблюдая за нею. Она устанавливала штатив и крутила колесики камеры с лицом ребенка, получившего, наконец, ту игрушку, к которой он так долго тянулся. Пару раз она обернулась к нему с этим лицом, улыбнулась ему; потом опять сосредоточилась на своей съемке. Он видел в ее жестах, глазах и действиях то отрешенное внимание, которое так хорошо знал по дза-дзену. К дза-дзену он и обратился, к коану. Он начал считать свое дыхание, от одного до десяти, погружаясь в самадхи, а в то же время не переставал наблюдать за нею, даже улыбаться в ответ ей. На ней были те же черные джинсы и тот же черный открытый свитер, как в кронбергской электричке, был не черный, но темно-синий, до колен, плащ, не знакомый ему, который сняла она, как будто он мешал ей фотографировать, положила на ступеньки вагончика. Явно мешали ей волосы, как во время вернисажа, распущенные, и такие же рыжие, с несмытою краскою; она их не собирала в пучок на затылке, но каждый раз, припадая к камере, откидывала назад осторожным и в то же время каким-то насмешливым движением руки, отчего рукав свитера сползал к локтю, обнажая крепкое запястье и собственно руку, круглую, полную, белую. Что-то было трогательное в этом движении. Он почувствовал, что влюбляется в нее, вот сейчас, в этой заброшенной каменоломне; то есть влюбляется в нее саму, не просто в этот тип женщины, к которому испытывал такое для него самого неожиданное влечение; даже почувствовал ту умиленную печаль, которая неотделима, наверное, от влюбленности. Настоящий дзен-буддист сидит всегда, никогда не встает. Он чувствовал все это, и удивлялся тому, что чувствовал, а в то же время продолжал решать свой коан, что бы сие ни значило, и мне очень хочется верить, что это был один из моих любимых коанов, который (это я знаю) он решал в то время, и в самом деле (но, кажется, лишь два или три года спустя) решил (что бы сие, еще и еще раз, ни значило), тот коан, в котором ученику предлагается показать (но вот именно: как показать?) учителю свое истинное лицо, подлинное лицо, лицо, уже бывшее его лицом до знакомства друг с другом его папы и мамы, даже до рождения этих мамы и папы. Она бросила снимать камни и, спросив у него позволения, стала снимать его, Виктора, сделала один снимок, второй и третий (первый, второй и третий из бесчисленных Викторовых фотографий, сделанных ею за время их близости); ей не просто понравилось, но почти ее, тоже, тронуло, как он легко согласился и как спокойно, не рисуясь и не позируя, сидел под ее объективом, так сидел, расставив ноги и сложив руки в буддистскую мудру, как если бы он был просто частью пейзажа, камнем среди прочих камней, отвечавшим на ее взгляды и смущенно, печально и весело улыбавшимся в ответ ей, но не стремившимся предстать перед нею в каком-то ином образе, облике, как бессознательно стремятся почти все люди и как никогда не стремятся камни, деревья и облака. В совершенной тишине этой заброшенной каменоломни, где слышно было только сухое потрескивание мелких камушков у нее под ногами, да изредка далекий шум ветра в раскрашенной, бурой и багряной роще над ними, он смотрел на нее прочищенными коаном глазами, свободный, пусть на миг, от желаний, стремлений и скорби, впуская в себя покой этого остановившегося мгновения, застывшего времени, этих вихрастых, сверкающе-темных, неподвижно-изменчивых облаков над оврагом и рощей, и чем дольше все это длилось, тем сильнее в нее влюблялся, как если бы та любовь и жалость ко всему, что есть на земле и под небом, которые, бывало, так остро и отчетливо испытывал он во время дза-дзена, сессина, просто-напросто, в его теперешнем самадхи, перешли на нее, Тину, продолжавшую щелкать камерой и менять объективы, или так, может быть, как если бы, разгадывая свой коан, ища и не находя свое подлинное, до встречи и даже до рождения родителей уже бывшее, и значит, не рожденное, от века данное ему лицо, он вдруг разглядел ее лицо, подлинное, данное ей от века, то скрывавшееся за фотокамерой, за волосами, то вновь, из-за камеры и волос, возникавшее перед ним.
Подружиться с вождем
Они снова выехали к Рейну, не спускаясь к нему; выехали к замку над Рейном, одному из многих, где был ресторан и терраса, с парапетом и видом на реку, долину, противоположные холмы, другие замки на том берегу. Людей в ресторане почти не было, а если были, то сидели внутри. Уже и холодновато было для сидения снаружи; только две стойкие старушки, завитые и громкоголосые, уплетали за дальним столиком по огромному куску яблочного пирога с гипертрофированной горкою взбитых сливок на каждом. Они выбрали место под конским каштаном с огромными, уже желтыми и бурыми, колючими звездами, упавшими на деревянный, без скатерти, на ощупь грубо-приятный стол. И очень понравилось им сидеть под этим каштаном в ожидании обеда, глядя на долину и реку, катая колючие звезды по согретой солнцем столешнице; им обоим теперь все уже нравилось, даже громогласные старушки со сливками, даже официантка с родинкой в полщеки, равнодушно объявившая, что ничего уже нет, все съедено, только шницель с картофельным салатом остался да, если угодно, омлет она может сделать. Тина выбрала шницель, Виктор омлет. Тут впервые упомянул он о дзен-буддизме, объясняя ей синеву своей головы, сверкая осмысленным безумьем в глазах. Она сказала вдруг, что последний раз была в таком рейнском замке, только не в этом, а в каком-то из замков на левом, другом берегу, вон в том, может быть, или в маленьком, вон в том, среди скал, она точно не помнит, — но что последний раз еще школьницей была в таком замке, еще гимназисткой, вместе со всем классом, на скучной экскурсии... Больше в тот день о той экскурсии ничего она не сказала. Зато узнал он, что в школу она ходила во Франкфурте, но сразу, как только ее закончила, уехала учиться в Дюссельдорф, во-первых, потому что вообще хотела уехать подальше от родителей и начать свою взрослую жизнь, а во-вторых, и это главное, потому что всегда хотела учиться всерьез фотографии, а лучшего места, чем Дюссельдорф, чтобы учиться всерьез фотографии, тогда, по ее мнению, не было, да и сейчас, наверное, нет. Эта страсть у нее наследственная. У ее родителей, узнал Виктор, был магазин недалеко от вокзала, в самом, следовательно, бандитском районе, где торговали они фотоаппаратами и всем, что связано с ними. Этот магазин, он же и фотостудия, до сих пор существует, ее сестра Вероника (ударение на о) им владеет. То есть владеют они им сообща, но Тина не занимается им. Из Дюссельдорфа она не сразу вернулась во Франкфурт, собственно, и не собиралась возвращаться во Франкфурт, но сперва уехала в Мексику, да, то есть сперва уехала в Штаты, где много раз бывала девочкой, потому что у них родственники в Штатах, но потом решила, что это недостаточно для нее экзотично, и перебралась в Мексику, где прожила целых два года, работая для одного местного фотоагентства, а прежде чем возвратиться в Европу, совершила большое путешествие по Южной Америке, лучшее приключение всей ее жизни, побывала в местах опасных и диких, глухих, прекрасных, пустынных, в Колумбии, в Перу, в Парагвае, а в Аргентине доехала аж до Рио-Давиа, если он знает, где это, футуристического города на берегу немолчного океана. Она думала поселиться опять в Дюссельдорфе и, наверное, так бы и сделала, если бы не кое-какие привходящие обстоятельства... Пообедав, они подошли к парапету, остановились, глядя на реку, уже отсвечивавшую тем сизым блеском, которым вода возвещает о приближении вечера. На другом берегу видны были густо-лесистые склоны Хунсрюка, места, опять же, дикие и пустынные (не столь пустынно-дикие, как Парагвай и Перу), воспетые Тургеневым в «Асе» (о чем ни он, ни она не думали; наверное, и не знали). Он только что (час тому назад, до обеда) держал ее за руку, когда они спускались в каменоломню, когда снова из нее выбирались; как-то само собой получилось, что он положил теперь свою руку с красноватыми костяшками коротких пальцев на ее, лежавшую на каменном солнечном парапете. Со вновь вырастающим возбуждением почувствовал он под своей ладонью ее плотную, крепкую, как у ребенка, успокоительную ладонь; она же почувствовала приближение слез, столь многое и так остро напомнил ей этот жест. Она пошла, и он пошел вслед за нею, к замковым, узким, длинным и темным воротам — и дальше, по обнаружившейся тропинке; чтобы скрыть свое волнение, сказала, что ничего не знает о дзен-буддизме, но что Картье-Брессон, великий фотограф и один из ее кумиров, в своих интервью и записях сравнивает фотографию с дзеном, фотографирование со стрельбою из лука, ссылаясь при этом на книжку о дзене и стрельбе из этого самого лука, написанную немецким, кстати, автором, имя которого она, Тина, не помнит... Виктор не знал, кто такой Картье-Брессон, но был счастлив. А книжку эту, между прочим, говорила Тина, свое волнение пряча по-прежнему, подарил Картье-Брессону не кто-нибудь, но Жорж Брак, причем где-то читала она, что это было во время войны, в оккупированной, соответственно, Франции, и чуть ли не в тот самый день, когда Брак и Брессон услышали по радио о высадке союзников в Нормандии. Тина (еще раз) историю фотографии знала (знает) в анекдотах и лицах. Фотограф выстреливает из своей камеры, как из лука, в решающее, неуловимое, магическое мгновение. Все дело в том-то и заключается, чтобы поймать это неуловимое мгновение, эту волшебную долю секунды. Они и сами шли сквозь серию таких мгновений, солнечных бликов, еще игравших на Рейне, под ними, и она рассказывала теперь о Мексике, куда поехала не без тайной мысли все о том же Брессоне, потому что он уже тогда был одним из ее героев, хотя она занималась, и до сих пор занимается, не только фотографией уличной, street photography, стремящейся ухватить случайное, неизбежное, неповторимое, но и фотографией студийной, постановочной, вообще разнообразными экспериментами с камерой и компьютером; Картье Брессон, продолжала Тина, тоже в молодости провел два года в Мексике, работая в фотоагентстве. Она изъездила ее вдоль и поперек, эту Мексику, от Гвадалахары до Юкатана, прожила месяц в индейском пуэбло, где подружилась с вождем (а в экзотических местах, говорила Тина, нужно в самую первую очередь подружиться с вождем...), и откуда бежала ночью на попутном, по счастью подвернувшемся джипе, убегая от этого самого вождя и его матримониальных намерений... Уже солнце начинало краснеть и садиться над Хунсрюком, посреди не вихрастых более, но растянувшихся по небу, засыпающих облаков; в вечерних, долгих и теплых отсветах ее лицо тоже казалось ему индейским, непроницаемым; она сама с ее величественным, при ходьбе колебавшимся бюстом, с ее широким выступающим задом, обозначенным отчетливыми складками в свою очередь колебавшегося плаща, казалась древней, вдруг ожившей фигурой, скульптурой, намекавшей на что-то совсем далекое, архаическое, мифологическое, победительно-первобытное, непререкаемое.
Читать интервью с Алексеем Макушинским: "Проблемы самоидентификации для меня не существует"

Алексей Макушинский — поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году в Москве. Филолог, кандидат наук. Автор романов "Макс", "Город в долине", "Пароход в Аргентину", книг стихов "Свет за деревьями", "Море, сегодня", книги эссе "У пирамиды". В Германии с 1992 года. Доцент кафедры славистики университета города Майнц. Лауреат премии "Глобус" журнала "Знамя" и Библиотеки иностранной литературы. Финалист премии "Большая книга". Первый приз "Русской премии" 2015 года.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

