Проза
ПопулярноШлойме
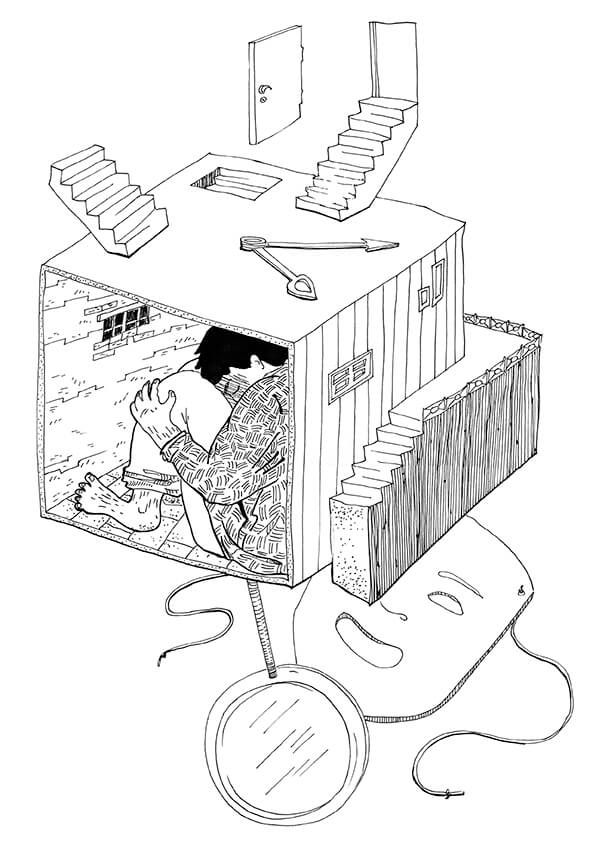
Человек, как и часы, всегда хочет или немножко побежать вперед, или очень немного отстает… И человека тоже надо и чистить, и выверять, и чинить…
Евгений Чириков, «Евреи»
«Я никого не трогаю, я живу себе тихо, — за что меня можно убивать?!» — Николай прошептал заученную реплику и удивился, как надоевшая за столько лет пьеса глубоко въелась в его память — не вытравить. Ему было холодно. Из зарешеченного окна с давно разбитым стеклом задувал холодный осенний ветер, каменный пол отдавал ночной холод, стены были покрыты липкой сыростью. Утром отсюда вывели безымянного калмыка — всю ночь тот не спал, а только сидел на этом холодном полу, раскачиваясь из стороны в сторону, и подвывал, как будто передразнивая ветер за окном. У калмыка были выбиты зубы, один глаз затек, а второй — узкий, едва заметный на смуглом скуластом лице, — потерял интерес. После того, как калмыка увели, Николай остался один, и он не знал, чем закончится эта глупая история, которая враз перечеркнула его жизнь.
В 1905-м ему было шестнадцать, и в Вологде он объявился случайно — рано потеряв родителей, он прибился сюда на заработки, да так и остался. Ему повезло — устроившись грузчиком, он оказался на театре. Он таскал и помогал устанавливать декорации, а по вечерам, когда аляповатый театральный зал заполняла разодетая публика, смотрел из-за кулис за жизнью красивых и богатых людей — и в зале, и на сцене. Черноволосый, смышленый, он выглядел старше своих лет и умел — и любил — читать. И однажды, попавшись на глаза представительному господину в котелке, вдруг оказался на сцене — разодетый в рубашку с чужого плеча, с неудобным и ломким воротником, он в дрожащих руках выносил рассевшимся на сцене господам чай и все никак не мог отвести взгляд от блестевшего лорнетами зрительного зала. Было так страшно, что накрахмаленный воротник в одно мгновение пропитывался потом, и Коля сглатывал подступивший к горлу ком.
После того, как он в первый раз вышел на сцену, уже по окончание спектакля, ему налили стакан водки. За кулисами говорили о том, что в Санкт-Петербурге расстреляли рабочую демонстрацию, говорили про царя, святого старца Григория Ефимовича называли Гришкой, спорили о несправедливой жизни и о том, что все изменится. Никогда не пробовавший ничего горячее чая с дешевой баранкой, Коля слушал эти незнакомые непонятные речи, потом глотнул из стакана и задохнулся, а из глаз его полились слезы. Рабочие сцены смеялись по-доброму, хлопали его по спине, а потом уложили спать — там же, за кулисами. Он спал без снов, утром не мог открыть глаз, голова раскалывалась, а руки дрожали еще сильнее, чем тогда, на сцене.
Никто не понимал, чем этот мальчишка без образования и биографии приглянулся важному человеку в котелке, руководившему всем большим театром, но — была ни была, и вскоре Коля получил роль со словами. Потом, как по волшебству, еще одну. А потом сыграл молодого еврея в постановке пьесы, которую запрещали, да отчего-то все никак не могли запретить. За кулисами его стали называть жидком, а он не обижался, потому что стал исправно получать жалование, в конце недели употреблять стакан водки, и ему уже не нужно было грузить декорации, занозить руки и голодать.
Заурядная пьеса между тем набирала популярность — в столице ее опубликовал прогрессивный писатель, она завоевывала театральные подмостки по всей империи, артистам рукоплескал Санкт-Петербург и Тифлис. Коля об этом не знал — из «жидка» он превратился в Шлойме, других ролей не получал, довольствовался малым, много читал русской классики и думал о том, что надо ехать в столицу. Несколько раз он уже было собрался, но все откладывал этот свой отъезд, пока не окончательно не почувствовал, что прижился в Вологде, где было спокойно, тихо и относительно сытно.
Не до конца же запрещенная пьеса не сходила с подмостков. Колю, которого теперь иначе как Шлойме не называли, стали узнавать на улице, один раз даже чуть не побили. «Когда я шел вчера утром по базару, то один пьяный человек схватил меня за шею и ударил… — цитировал он в участке собственную роль к удовольствию городового и других охранников провинциального порядка. — Я его совсем не трогал, шел себе потихоньку… А когда я побежал, то кто-то бросил в меня камень… Слава Богу, негодяй промахнулся!.. Очень большой камень!.. Что я им сделал?! Я шел себе…» Городовой хохотал, почесывая заросшее бородой красное лицо. От него несло самогоном и капустой, за окнами нападали сугробы — дело было зимой, — Коля пил крепкий чай и выдумывал про то, как трудно бывает запоминать целые страницы чужого текста, хотя его небольшая роль была вызубрена им наизусть уже давно, а других ролей у него не было. «Вот же, морда жидовская», — довольно заключил городовой и выгнал Колю на мороз. Коля только пожал плечами.
У него появились подруги из среды молодых любительниц театра — непритязательные девушки без положения кичились знакомством с актером популярной пьесы и с готовностью скидывали с себя фартуки и платья. К этому времени — на дворе был уже 1910 год — Коля жил в полуподвальной комнатенке недалеко от театра, много читал — в основном, все ту же русскую классику и заполонившие книжный рынок переводные бульварные романы, — и не вспоминал о том, что собирался завоевывать столичную сцену или просто перебраться куда поближе к миру больших возможностей. Ему хватало Вологды, и от водки он уже давно не задыхался.
Шли годы, и в жизни Николая ничего не менялось. На театре к нему привыкли и в свое время не заметили, что артист перерос своего героя, девятнадцатилетнего Шлойме, так что он продолжал чуть ни еженедельно выходить на сцену. Часовая мастерская, которая все эти годы оставалась единственной его декорацией, тикала ходиками, и ничего не менялось, только седобородый старик, игравший часовых дел мастера Лейзера Френкеля, все больше походил на библейского патриарха и давно не вспоминал — кроме как на сцене — про кишиневский погром, и никто о нем не вспоминал, в том числе и жившие в городе немногочисленные евреи, которым было не до театра — надо было выживать, где-то далеко бушевала Мировая война, газеты писали про то, как бравые русские солдаты по всем фронтам гонят немчуру, а пришлые за бутылкой доброго самогона рассказывали про беженцев, нехватку продовольствия в обеих столицах и про то, что какие-то люди баламутят народ и в армии, и в тылу.
«Будто бы я шел-шел, очень долго шел. И ноги мои болели, и мне очень хотелось кушать», — в очередной раз пересказывал со сцены Николай сон своего Шлойме, и зрители усмехались, а глаза старого часовщика Лейзера Френкеля становились стеклянными, как у рыбы на глубине.
«И вдруг я пришел в город, очень большой и хороший город! Уже была ночь, и на улицах никого не было. Я очень боялся, что в этом городе тоже нельзя жить евреям, и когда увидал на углу господина полицейского, то очень испугался… — продолжал Николай-Шлойме. — Я думал себе: вот он сейчас подойдет ко мне и скажет: “Дайте ваш паспорт!” Я уже хотел убежать, но господин полицейский закричал мне: “Не бойся! И я тоже — еврей!” Я сказал: “Позвольте вас спросить, какой это город, куда я пришел?” Это был Иерихон… И мое сердце так сильно забилось, что я проснулся и думал, что умру от радости… И я не мог больше спать, - так мне было хорошо и тревожно на душе!..» Это был хороший сон, но Коля за эти годы так и не стал настоящим жидком и, откликаясь на имя Шлоймо, которым его продолжали окликать на улицах, дальше своего — и правда, похожего на сливу — носа не заглядывал, даже по случаю почитывал какой-то дешевый черносотенный листок, если тот попадался под руку. Русскую классику он давно забросил, проводя многочисленные свободные часы за полюбившимся самогоном то с невзрачными, занятыми на вторых ролях, артистами, то с редкими знакомыми — друзьями в Вологде он так и не обзавелся, а больше нигде и не был.
Шли годы. Когда в январе 1918-го в Вологду пришла Советская власть, Николай продолжал рассказывать все тот же сон, а в зале, над которым теперь клубился вонючий дым плохой махорки, гоготал и лузгал семечки победивший пролетариат.
Однажды, когда сразу после спектакля забрали старика, игравшего часовщика Френкеля, Николай пришел в свой полуподвал, не раздеваясь глотнул стакан мутного самогона и громко сказал: «Ой-ой-ой! Что же это будет? Совсем нельзя жить…» Что-то начиналось вокруг, что-то темное, с чем Николай не хотел согласиться, а что — этого он понять не мог. Как говорил рэб Френкель, «даже бродячие собаки, когда их ловят, огрызаются…» Тьфу ты, черт!
А потом забрали и его. Правда, не сразу, — сначала из репертуара сняли пьесу, которую почти пятнадцать лет назад хвалил прогрессивный писатель, но сняли не по политическим мотивам, никакой цензуры, а просто некому было играть старого часовщика. Да и не до театра стало, все вокруг были заняты строительством новой жизни, а Николай, который продолжал ютиться в полуподвальной своей комнатенке и без привычного жалования уже начал голодать, порой приходил домой пьяным от перепавшего революционного самогона, получал по шапке от принявших на грудь пролетарских строителей светлого будущего, которые почему-то раздражались при виде артиста с интеллигентской еврейской внешностью. Хотя сформулировать свои претензии они не могли, про невинно убиенного Христа не вспоминали, а били просто так, по старой памяти: Шлоймо — он Шлоймо и есть. «А римляне в том же обвиняли христиан…» — почему-то вспоминал Николай не свою реплику и, закутавшись в рваное одеяло, ложился спать на голодный желудок.
Когда его забрали, он не сразу понял, что происходит. К нему пришли домой, стучали в дверь, и этот стук вырвал его из беспокойного сна. Он давно уже спал одетым, так что его увели сразу, ничего не искали, только опечатали дверь. В чем его обвиняли, он тоже не знал.
Подвал, в который его затолкали, был меньше, чем тот, к которому он привык, — меньше и холоднее. Когда Николай оказался в этом подвале, там уже был калмык. Калмыка держали здесь за то, что он ограбил продуктовую лавку.
Калмыка били почти каждый день. Николая первое время не трогали, а потом стали выводить наверх, на допросы. Его допрашивали в маленькой комнатке на втором этаже, спрашивали про седобородого старика, с которым Николай много лет выходил на одну сцену. Оказалось, что тот сразу после революции, в самом конце 1917-го, организовал в Вологде контрреволюционное подполье, насчитывавшее несколько человек, из бывших. Допрашивавший Николая молодой парень, тоже Николай, самодовольно улыбался, хвастался, что подполье накрыли легко, и требовал рассказать о том, как старик занимался пропагандой на театре. Рассказывать было нечего, и Коля лишь пожимал плечами. Потом молодого Николая сменил суровый мужчина в кожаной куртке. Он не улыбался, говорил мало, зато много курил, а однажды внимательно посмотрел на Николая и честно сказал, что поставит его к стенке. И Николай подписал бумагу, которая лежала перед ним на старом прожженном столе.
Его отвели обратно, в подвал, где уже не было калмыка, а был только холодный ветер из окна. Его еще несколько раз водили на допросы, и однажды в коридоре он видел старика. Николаю показалось, что тот постарел еще сильнее, и его седая борода стала совсем белой. Старика вели мимо по коридору, и он шел, низко опустив голову, словно не мог ее поднять, придавленный невидимым грузом. Николай смотрел на него и молчал, потому что говорить было нельзя, а потом, когда старик проходил совсем рядом, прошептал: «Я очень люблю жить, рэб Лейзер…» Старик на мгновение поднял голову и посмотрел на Николая. «Ах, Шлойме, Шлойме», — едва слышно выдохнул он и прошел мимо. Больше Николай его не видел.
Николая перестали трогать. Казалось, о нем забыли, но утром и вечером дверь открывалась, и на полу появлялась миска с однообразно невкусной едой.
Потом к Николаю вернулись сны — они были липкими, как сырость стен, Николай проваливался в них и утром долго не мог понять, где находится. Ему снились древние каменные стены, зеленые деревья, каких он никогда раньше не видал, и седовласые старцы, похожие на старого часовщика. Возвращаясь из снов, Николай находил себя среди голых стен, на холодном полу, и переставал отличать сон от яви. И однажды заснул, чтобы уже не просыпаться.
Перед тем, как закрыть глаза, он увидел черноволосого парня в кепке и сером мятом пиджаке. У парня были грустные глаза и смешной нос, похожий на сливу. От парня пахло чесноком. «Когда человек умрет, то ему все равно: он никогда не узнает, что делается на свете, ничего не увидит и ничего не услышит… — сказал парень, и Николай узнал в нем помощника часовщика Шлойме. — Нехорошо, что людям надо непременно умирать…»
Больше к нему никто не приходил.
__________________________
Все события, изложенные в рассказе, являются вымыслом. В тексте использованы цитаты из пьесы Евгения Чирикова «Евреи».
Евгений Чириков написал пьесу «Евреи» в 1904 году, находясь под впечатлением от погрома в Кишиневе. Эта пьеса, несмотря на цензурные ограничения, долгие годы не сходила с подмостков имперских театров. Пьесу хвалил Максим Горький, а к одному из изданий предисловие написал Симон Петлюра: «Страдания Нахмана из “Евреев” Чирикова вызовут глубокое сочувствие у каждого, кто не принадлежит к этому народу, которому по воле исторической судьбы выпало нести тяжкий крест притеснений и насилий». В Тифлисе роль Нахмана сыграл Всеволод Мейерхольд; в Вологде пьеса не сходила с подмостков почти двадцать лет. Живого классика драматургии активно печатали (до революции вышло его собрание сочинений в 17 томов), в начале 1909-го в Санкт-Петербурге, во время обсуждения пьесы Шолома Аша, несправедливо обвиняли в антисемитизме, позже в его защиту выступил Владимир Жаботинский. В 1920 году Евгений Чириков покинул советскую Россию, жил в Праге, где умер в 1932 году. Похоронен на Ольшанском кладбище.
 Евгений Коган родился в 1974 году в Ленинграде. Автор четырех книг (в том числе «Енот и я»), участник сборников («Петербург нуар» и других), составитель сборника «Уже навсегда», составитель книг «Две повести» Михаила Фромана и «Собрание стихов» Вольфа Эрлиха, совладелец книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив).
Евгений Коган родился в 1974 году в Ленинграде. Автор четырех книг (в том числе «Енот и я»), участник сборников («Петербург нуар» и других), составитель сборника «Уже навсегда», составитель книг «Две повести» Михаила Фромана и «Собрание стихов» Вольфа Эрлиха, совладелец книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив).
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

