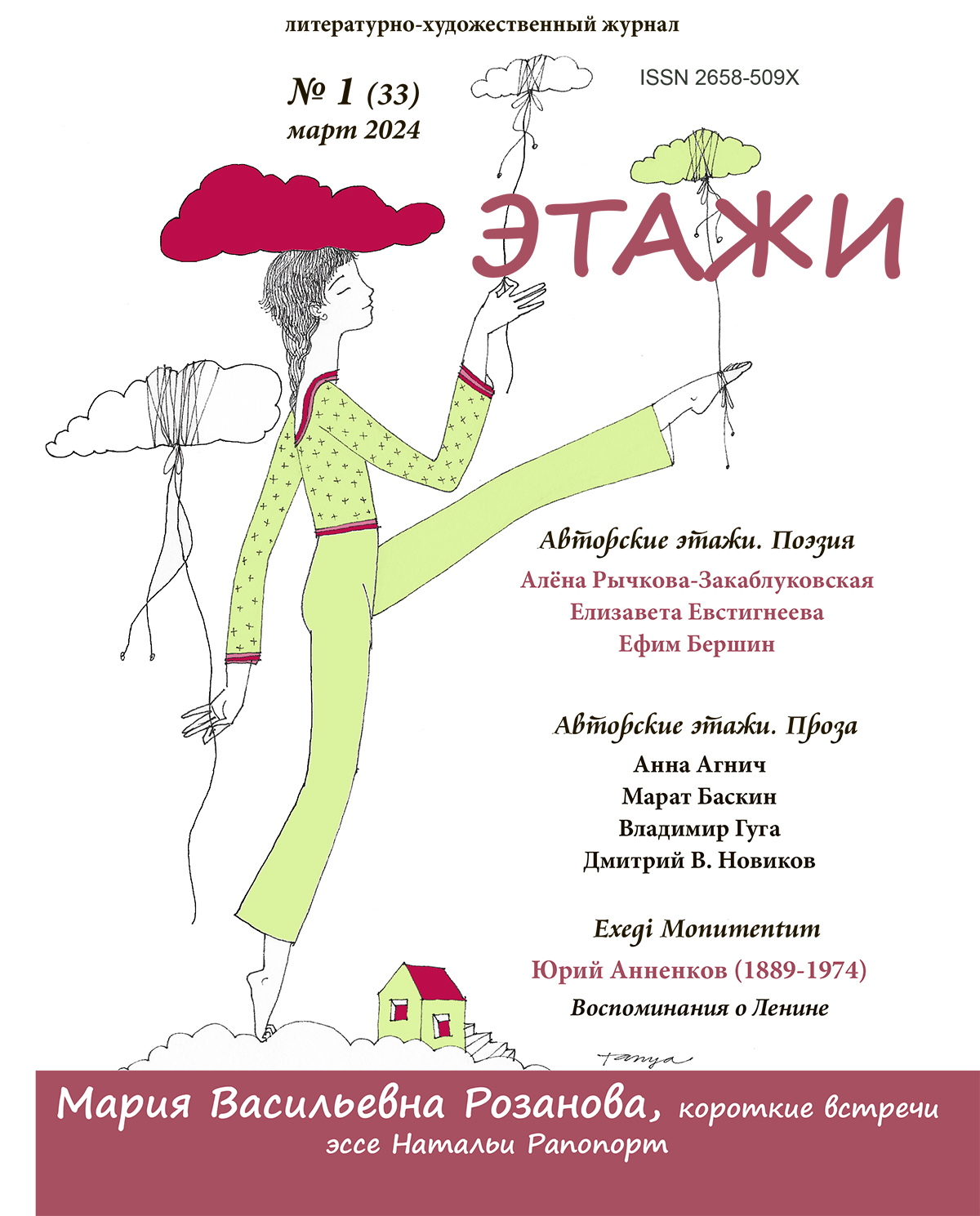Главный жанр
ПопулярноМультимир Александра Татарского

Он чуть было не угодил за тюремную решетку. Он умел добывать деньги из воздуха. Он любил юных девушек. Его мультфильмы заставляли хохотать всю страну — «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут Колобки», «Крылья, ноги и хвосты»… Припоминаете? А «Падал прошлогодний снег» и вовсе превратился для советских телезрителей в такое же культовое предновогоднее зрелище, как «Ирония судьбы или с легким паром». Трудно поверить, что когда-то «прошлогодний снег» долго лежал на полке запрещенных для показа кинолент…
Из воспоминаний Александра Татарского: «Меня обвинили в русофобии, в издевательстве над советским человеком. Потому что в фильме всего один герой — мужик в драной шапке. И вдобавок он идиот. А тогда какая была идеология: если ты показываешь, что плохой врач ворует спирт и делает подпольные аборты, то по сценарию обязательно, хотя бы в эпизоде, должен был появиться хороший врач, который не занимается подпольными абортами, выкидыши вставляет обратно, а спирт ставит на место в шкаф».
Его отец, Михаил Семенович, писал репризы для великих клоунов Юрия Никулина и Михаила Шуйдина. Они часто бывали в Киеве, в доме у Татарских. И Никулин сказал однажды, что в душе маленький Саша — тоже клоун. Юрий Владимирович угадал — в мультфильмах Александра Татарского многое идет от клоунады. Да и вообще он дня не мог прожить без розыгрышей и мистификаций.

«Ехали мы как-то в машине с ним, разговаривали, — вспоминает Евгений Делюсин, ученик Татарского, который теперь работает в Лос-Анджелесе. — Вдруг Саша спрашивает: «Хочешь порулить?» И тут же вручает мне баранку. А машина едет! Это был шок. У него руль в машине отстегивался!»
Иногда жертвами его приколов становились ни в чем не повинные уборщицы, иногда — недруги, иногда — коллеги. Но больше всего доставалось не в меру возомнившим о себе телевизионным красоткам, которые потом сгорали от конфуза.
«Подходит Татарский и говорит: «Через десять минут ты подойдешь, постучишься вот в этот кабинет и скажешь: «Саша, тебя срочно к руководству!», — вспоминает аниматор Владлен Барбэ. — Я так и делаю. Он выходит, оставляя дверь полуоткрытой, и я из коридора вижу обнаженную женскую фигуру. Девушка — в ужасе. Я совершенно ошарашен. Так и стою на пороге, не догадавшись даже дверь прикрыть. А это, между прочим, коридор «Останкино» — уйма народу бегает туда-сюда!»
В «Останкино» стены тонкие, и слухи об этих шуточках мгновенно доходили до руководства. Ну, а какой уважающий себя начальник мог бы оставить такое хулиганство безнаказанным? В конце концов Татарского выставили из главного корпуса телецентра в обшарпанный барак неподалеку. Хотели припугнуть, унизить этой ссылкой, однако результат оказался противоположным. В бараке не было бюро пропусков. И вскоре туда потянулись толпы будущих «гениев анимации».
Но это было уже в Москве. А поначалу отец пристроил сына в киевский цирк — униформистом, с прицелом выучить на клоуна. Но долго Саша там не продержался. Он придумывал таких персонажей, которых ни один клоун не сыграл бы. Их можно было разве что нарисовать. Отсюда и возникла идея делать мультики. Поэтому Татарский-младший перебрался на студию «Киевнаучфильм», где было отделение анимации. Там он сдружился с Игорем Ковалевым — теперь тоже всемирно знаменитым аниматором. Днем они малевали на студии что прикажут, а по ночам создавали «Свое кино» — на «мультстанке», который смастерили из обломков старой кровати и списанного рентгеновского аппарата.

Из воспоминаний Александра Татарского: «Но рано или поздно в нашу мастерскую приходили такие, знаете, хмурые дяди в штатском: «А что вы тут делаете? Мультфильмы, да? Скажите, а вот на этой штуковине можно переснять текст какой-то — листовки, например, размножить?» Это первое, что спрашивали — можно ли размножить листовки?»
Всякий раз после таких визитов им приходилось подыскивать новое тайное убежище. И все-таки они закончили свой первый фильм — «Кстати о птичках», предвестник знаменитой «Пластилиновой вороны». С этим подпольно-самопальным шедевром друзья отправились в Москву. Хотели показать его на Высших режиссерских курсах. Бобины с пленкой везли в авоське — как картошку с рынка. На привокзальной площади спросили у какой-то бабули — где тут Большой Тишинский переулок?
Из воспоминаний Александра Татарского: А бабушка и говорит: «Наверное, приехали на курсы к Хитруку поступать?» Мы абсолютно обалдели! У нас что — на физиономиях все написано?! Оказалось, бабушка работала на курсах гардеробщицей. Показала дорогу, но предупредила: сейчас каникулы, и вряд ли вы кого-нибудь застанете на месте. Она оказалась права. Пришлось, несолоно хлебавши, возвращаться домой. Однако мечта о Высших режиссерских курсах уже не покидала ни на миг».
Татарский очень любил родной Киев. Но часто говорил, что в этом дивном городе прекрасная флора сочетается со злобной фауной. Под фауной он разумел тамошних чиновников. В отместку за то, что два зарвавшихся «юных гения» осмелились состряпать «нелегальное» кино, директор «Киевнаучфильма» накатал на них донос, выдав обычную вечеринку в доме у Татарского за пьяную оргию с изнасилованием. Он, видимо, не сомневался, что ему поверят — все знали, что Татарский с Ковалевым были крайне неравнодушны к девушкам.
«Когда нам было по двадцать лет — это вечный дележ был, — вспоминает Игорь Ковалев. — «Нет, эта — моя!» «Нет — моя!!!». Но Сашку девушки любили больше…».
По доносу возбудили уголовное дело. Но оно, к счастью, вскоре лопнуло. И друзья вновь отправились на покорение Москвы. На этот раз Ковалева приняли на курсы, а вот Татарского почему-то нет. Попытки устроиться на телевидение тоже ни к чему не приводили.
Из воспоминаний Александра Татарского: «Я оказался безработным. И обсуждал с одним знакомым, по образованию инженером — теперь он живет в Америке, а тогда бутылки в пункте стеклотары принимал — как бы и мне устроиться на такое же хлебное место? Ведь я ничего, кроме кино, делать не умел!»
Как раз в это отчаянное время судьба свела его с Эдуардом Успенским — «папой» бессмертных Чебурашки и Крокодила Гены. Они быстро подружились. Оба — влюбленные в анимацию. Вдобавок и проблемы у обоих были одинаковые.
«Как раз тогда я написал письмо в ЦК КПСС, что я беспартийный и поэтому меня нигде не берут на работу, — вспоминает Эдуард Успенский. — Дайте любую студию в любой провинции! И было заседание двух отделов ЦК, пропаганды и культуры. Один партийный босс — Тяжельников — говорил, что я неуправляемый и в придачу возглавляю еврейское лобби. А другой босс — Зимянин — сказал: «Смотрите-ка — все рвутся за рубеж, а этот хочет здесь остаться!» В итоге меня назначили каким-то вроде как худруком маленькой студии «Мульттелефильм».
Из воспоминаний Александра Татарского: «Эдуард Николаевич очень смешно печатал на машинке. У него пальцы стучали быстрее, чем он думал. И весь ход мысли отражался. «Жил-был один слоненок — нет, блин, это не то!» Вот это «Блин, это не то!» — тоже печаталось. Однажды он привез мне измятую страничку с кучей исправлений, со всякими выражениями мыслей — и средних, и задних, и боковых — и сказал: «На — работай!» Это был набросок «Пластилиновой вороны».
Композитором решили взять Григория Гладкова — с ним Татарский и Ковалев познакомились на крымском пляже. Это сейчас он входит в Книгу рекордов Гиннеса как самый плодовитый автор музыки для детей. А тогда Гладков работал водителем троллейбуса в Ленинграде и увлекался бардовской песней. В музыкальной редакции Гостелерадио СССР его кандидатуру попытались зарубить — музыку для кино должны писать только члены Союза композиторов!

«И тут в редакцию заглянул Успенский, — вспоминает Григорий Гладков. — Сказал: «Ага, да вы здесь взятки вымогаете!» И ушел. Редакторша стала задыхаться: «Да как он мог?! Какая клевета!!! Воды мне! Доктора!!!» Но провокация Успенского сработала — мою музыку утвердили».
Озвучивать фильм, к восторгу авторов, взялся сам Леонид Броневой! И вдруг — звонок от председателя Гостелерадио СССР товарища Лапина: «А с чего это вдруг в советском мультфильме поет оберштурмбанфюрер СС Мюллер?!» Надо же было, чтобы так совпало — когда Лапину принесли на утверждение «Пластилиновую ворону», по телевизору показывали сериал «Семнадцать мгновений весны» с «эсэсовцем» Броневым, который смотрела вся страна…
Из воспоминаний Александра Татарского: «Меня чуть было инфаркт не свалил. Это конец. Все знали — с Лапиным спорить бесполезно. Однако фильм почему-то приняли — с озвучкой Леонида Броневого. Но сразу положили на дальнюю полку за «безыдейность». Мол, ваша ворона не зовет народ в светлое будущее и не способствует строительству коммунизма».
Вообще-то в детстве Александр мечтал стать не художником, а футболистом. И даже занимался в детской школе при киевском «Динамо» — пока врачи не выявили у него тяжелый порок сердца. Любой стресс мог оказаться для Татарского роковым. Но он запрещал себе об этом думать.
Пока «Пластилиновая ворона» прозябала в запасниках Гостелерадио, Татарский отрабатывал свою зарплату заставками к разным передачам. Одна из таких заставок — к программе «Спокойной ночи, малыши!» — тоже, как и музыка Гладкова, вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Она ежевечерне появлялась на экране целых десять лет подряд!
«А «Пластилиновую ворону» впервые показали в «Кинопанораме» — на собственный страх и риск — ее тогдашний ведущий Эльдар Рязанов «при попустительстве» редактора Ксении Марининой, — вспоминает Григорий Гладков. — Успех был просто оглушительный. Из магазинов пластилин исчез — вся детвора принялась лепить».
Потом «Пластилиновая ворона» облетела двадцать пять международных кинофестивалей и отовсюду возвращалась с главными призами. И все-таки… К любому новому проекту Татарского начальство относились крайне настороженно. Чиновники нутром чувствовали, что в его аллегориях, шуточках и странноватых персонажах прячется некий подтекст, тайный смысл. А вдруг — упаси бог! — антисоветский?!
Фильмы лежали на полках, а Татарский — дома, на диване. От хамства, подлости, двуличия людей он прятался в безобидном мире вещей. Любил собирать, рассматривать, изучать всякую всячину. Старые игрушки, швейные машинки, радиоприемники и телевизоры — все, что напоминало ему о детстве, с которым он, по сути, никогда не расставался.
Из воспоминаний Александра Татарского: «Я живу с головой, повернутой назад. Я знаю по многим книгам, что так не надо жить. Но я там черпаю силы, вдохновение и стойкость, именно там — в детстве».
Так, как Татарский, не рисовал и не лепил тогда никто. Казалось, что его причудливые персонажи живут в каком-то странном параллельном мире. Сам Александр, однако же, считал иначе. Он любил сравнивать собственную голову с кухонным комбайном. Этот комбайн постоянно загружается картинками из реальной жизни, тщательно перемалывает их, сдабривает пряными словечками и выдает фирменные блюда.
Из воспоминаний Александра Татарского: «Любые самые удивительные и необычные фантазии являются продолжением каких-то реальных вещей — так устроен мозг человеческий. Я обладаю очень цепкой памятью на всякого рода комические аномалии, которые в жизни происходят. Например, фразу «Ничего не понимаю!», которую произносит мужик из фильма «Падает прошлогодний снег», говорил один начальник в Киеве, являясь по утрам на работу: «Ничего не понимаю, уже девять часов, а никто не работает! Ничего не понимаю!» Когда мужик, разглядывая свою будущую жену, говорит: «О, это мой размерчик!» — это фраза моего папы. А однажды я увидел в украинской деревне совершенно спившегося тракториста, который в тридцатиградусную жару ходил в ватных штанах с разодранной ширинкой. Он зашел в лавку сельскую, где продавался полный набор, то есть полиэтиленовые пакеты, уксус и экстракт кваса — больше ничего — и сказал продавцу, который мало отличался от него по дизайну: «Хеллоу, Толик!» А продавец в ответ: «Аналогично!» Вот такие они американцы! И это все потом так или иначе попадает в фильмы».
«Когда вышла «Пластилиновая ворона», останкинские аниматоры-ветераны в открытую возненавидели Татарского, почувствовав себя на его фоне второсортными, — вспоминает Эдуард Успенский. — И гнобили его любыми средствами. Например, у него фигурки пластилиновые со стола внезапно пропадали… И тогда всю лепнину для нового фильма приходилось заново переснимать. Как он это переживал? А он был веселым человеком. Он все время валял дурака. Ветераны из экономии не ходили в столовую — варили обеды на электроплитке. А Сашка тайком подменял в кастрюльке натуральные сосиски на самодельные — из особого пластилина, который при нагревании становился твердым как кирпич. Об такие сосисочки можно было и зубы обломать…»
Мечта о собственной студии — как об оазисе свободного творчества — не покидала Татарского ни на день. Хотя все чаще покалывало сердце… И все же он пробил, казалось, невозможное — в 1987-м в Москве открылась Школа новых экранных технологий «Пилот», где Александр стал и худруком, и директором. Работали «пилоты» в заброшенной церквушке, грозившей в любую минуту развалиться.

«Сколотили из подручного материала большой каркас, обтянули его плотной черной бумагой, и получился настоящий павильончик, где мы сидели и снимали, — вспоминает Валентин Телегин, один из верных соратников Татарского. — А в другом церковном приделе трудились сварщики. Когда они варили, падало напряжение, и наша камера вырубалась. И вот мы кричали: «Варите?» — «Варим!» — «Все, не снимаем!» — «Не варите?» — «Не варим!» — «Все, снимаем!»
После того, как сварщики укрепили старинные стены стальной арматурой, церковь передали Московской Патриархии. Татарский впал в полное отчаяние. Но тут случилось истинное чудо. Настоятелем храма назначили отца Владислава — выпускника ВГИКа, который променял киномучения на служение Всевышнему. Но интерес к кино не утратил. Батюшка разрешил аниматорам остаться под церковным куполом, пока они не подыщут новое пристанище — в обмен на помощь в реставрации храма.
«Я помню, делали отмостку и находили косточки разные, — вспоминает Валентин Телегин. — Когда-то при храме, очевидно, было кладбище… И Дима Маланичев, наш художник, хоронил эти косточки под соседним деревом. Однажды в церковь заглянул Рой Дисней, племянник легендарного Уолта Диснея. По слухам, он хотел создать на базе нашей команды московский филиал диснеевской студии».
Но Татарский Диснею не продался. Он мечтал создать в Москве собственный Диснейленд — не хуже американского. Он верил в безграничные возможности своих «пилотов». И вдруг… Все знали, что Игорь Ковалев — человек сложный и непредсказуемый. Но до какой степени — это выяснилось внезапно, когда Игорь заявил, что отныне будет делать только собственные, авторские фильмы, причем совсем в иной манере, чем Татарский.
«Я вам скажу, чем мы всегда отличались, — пытался впоследствии объяснить свой поступок Ковалев. — Саша по натуре — он скорее продюсер, он — организатор. Я все-таки… Я больше художник».
Услышать такое от самого верного, казалось бы, друга… За это можно было и возненавидеть. Но Татарский оставил Ковалева в студии. А сам — вместо свободного творчества — целыми днями обивал пороги всевозможных офисов в поисках денег на кино. И на проекты Ковалева — тоже. Один из них — «Его жена курица» — принес Игорю оглушительную славу. Уже как самостоятельному автору…
В 1991-м, когда рухнул СССР, Игорь Ковалев и целая эскадрилья других «пилотов» улетела в Лос-Анджелес. Из-за безденежья. Из-за отсутствия, как им тогда казалось, хоть каких-либо перспектив. Потому что новое российское государство по сути прекратило финансировать кино.

«А у меня хватило глупости и мужества остаться», — резюмировал много лет спустя Татарский.
В Америке Ковалев сделал блестящую карьеру. Сначала его взяли в творческую команду легендарных «Симпсонов». Затем он стал режиссером одного из самых популярных и продолжительных в США анимационных сериалов «Ох, уж эти детки!» — он выходил четырнадцать сезонов! А экспериментальные фильмы бывшего «пилота» собрали множество наград на самых престижных фестивалях. Посмотрев один из них — «Молоко» — Татарский позвонил в Лос-Анджелес: «Игорь, снимаю перед тобой шляпу. По изображению, по технике я ничего подобного не видел. Это апофеоз анимации… Свет, тень, весь объем… Но что там происходит внутри? Я ничего не понял. Мне это совершенно не близко».
Выходит, они и вправду должны были когда-то разойтись. Просто Ковалев почувствовал это первым…
В конце концов Татарский все-таки нашел новую базу для возрождения «Пилота» — можно сказать, поистине роскошную, в офисной башне на Карамышевской набережной. Здесь он решил осуществить еще один свой давний замысел — грандиозный сериал «Гора самоцветов» по мотивам лучших сказок народов бывшего Советского Союза. Но вскоре проект пришлось остановить — Россию подкосил дефолт…
Тогда же он начал строить в Подмосковье причудливый терем над крутым обрывом — для своих детей от разных жен, а также для множества четвероногих хвостатых и усатых обитателей. Строители предупреждали: на такой крутизне дома не строят! Послушав их, Татарский превратил обрыв в утес. Камень для этого добывался в самых неожиданных местах — например, на Красной площади.
«Однажды он проходил возле ГУМа и увидел кучи вывороченной брусчатки — там шли какие-то ремонтные работы, — рассказывает Григорий Гладков. — Сашка к рабочим подошел и говорит: «А можно эти камешки забрать?» — «Ну, за три бутылки — можно. Если спецтранспорт раздобудешь». — «Какой спецтранспорт?» — «А такой тягач с большой платформой — на них возят танки, трактора… Сюда другие машины не пускают». Где он нашел такой тягач — уму непостижимо. Зато потом гордился как ребенок — у меня даже камни уникальные!»
Единственное, на что у Татарского никак не находилось времени — это чтобы хотя бы раз слетать к своим ученикам в Америку.
«Мне кажется, он все же очень ревновал к тому, что мы уехали, — таково мнение Евгения Делюсина. — Он не хотел видеть, как мы живем, где мы живем… И не ошибся ли он сам, что не уехал?»
И все-таки старые друзья увиделись — в Москве, в июле 2007-го года, на двадцатилетии студии «Пилот». Они выпивали, дурачились, делились планами на будущее, назначали даты новых встреч… В тот вечер никто из них и подумать не мог, что через двое суток Саша ляжет спать и больше никогда не проснется… Кто-то позвонил с этой страшной вестью в Лос-Анджелес, Игорю Ковалеву. Тот не поверил: «Ребята! Скажите Сашке — это неудачный розыгрыш!»
Он ушел в 56 лет. А «Пилот» по-прежнему в полете. Вот уже ровно три десятилетия. За это время «пилоты» разных поколений создали более восьмидесяти фильмов, четырнадцать телепроектов и завоевали пятьдесят наград на международных кинофестивалях. А также вышли на американский рынок — на территорию Уолта Диснея… Так что «сумасбродный» Александр Татарский творил, сражался и мучился не зря.
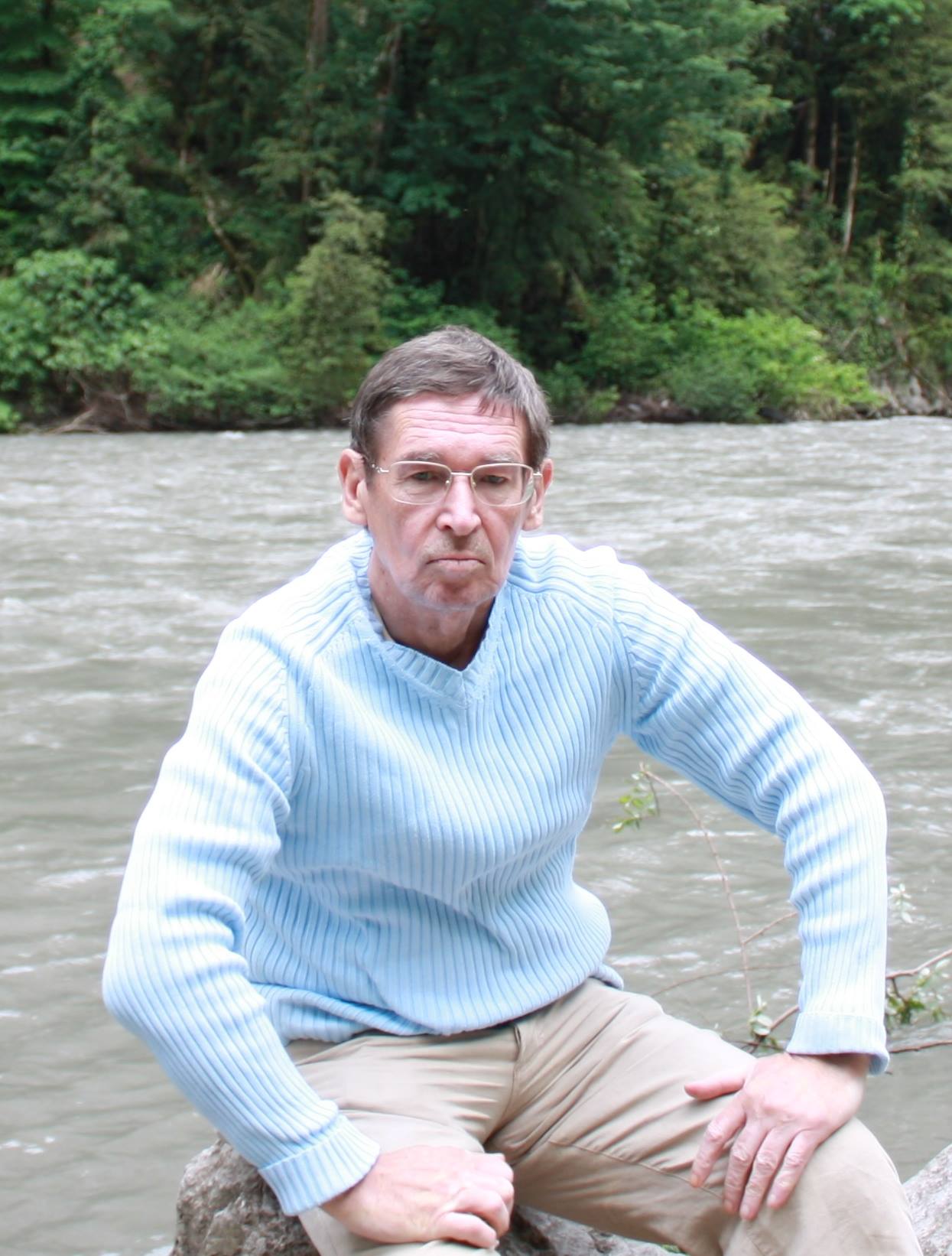
Сергей Шачин родился в 1952 году в Риге. В 1975 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете "Комсомольская правда", в журнале "Сельская молодежь" и выступал едва ли не во всех популярных советских СМИ, пытаясь пропагандировать через "аполитичные" очерки о "звездах" мирового спорта общечеловеческие ценности. В 1990 году перешел на телевидение, где создал одно из первых в России авторское ток-шоу "Пьедестал". С 2004 года - продюсер и сценарист документального кино. Параллельно с работой в кино писал для журналов "Медведь", PLAYBOY и MAXIM. Двукратный номинант российской Национальной телевизионной премии ТЭФИ, лауреат многих международных кинофестивалей.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи