Чердак художника
ПопулярноКартинки с выставки. Завтрак на болоте. Русская троица
«Картинки с выставки» — новая книга мастера нон-фикшн Александра Гениса («Довлатов и окрестности», «Камасутра книжника», «Обратный адрес»), затейливая и азартная прогулка для глаза и ума. «Искусство, — признается автор, — затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религию. Они даже не спорят и требуют того же. Шедевры, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит. И чем больше мы знаем о картине, тем больше мы хотим узнать о себе: о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. Живопись — трансформатор повседневности, и, деля с ним одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь в искусство».

Перов
Завтрак на болоте
В народ я ходил дважды. Первый раз собирать диалекты, во второй — фольклор. Как объяснили нам профессора на филфаке, одна практика нужна, чтобы выявлять шпионов, другая — для души и национального чувства. Добравшись на перекладных до Медведя, я не смог различить оттенки. Полдеревни были староверами, остальные — с раскосыми глазами, которые достались сельчанам в наследство от пленных с Русско-японской войны. Говорили, впрочем, все одинаково: по-псковски — цокая.
С фольклором оказалось труднее. Студентом я был черняв и курчав, из-за чего меня принимали за цыгана и не пускали в дом, пока я не показывал своего спутника. Им был непортативный магнитофон «Аида», который внушал уважение и будил песню. Чаще всего — Эдиты Пьехи. Если я настаивал на народном творчестве, в ход шли романсы, иногда — незнакомые, но всегда про кавалеров. Решив для зачета списать былины из хрестоматии, я пил у хозяев чай с домашним вареньем и покупной, что всегда подчеркивалось, карамелью.
Деревня мне досталась небедная. Почти у каждого крыльца стоял мопед, внутри — модный, как в журнале «Силуэт», полированный шкаф и телевизор, накрытый от греха вышитой дорожкой. Мало того, в одном доме стены украшали не вырезанные, как у других, репродукции из «Огонька», а настоящие, писанные маслом картины.
Не узнать их было нельзя, узнать — тоже. Словно тот фольклор, которым меня угощали в Медведе, эта живопись была, безусловно, народна, но отнюдь не безымянна. Как говорил капитан Лебядкин, «басня Крылова моего сочинения». Взявшись за любимые образцы, художник создавал их нерабские копии, точнее — версии. Боярыня Морозова сильно косила, Аленушка получилась вылитой шизофреничкой, у Серого волка были глаза Сталина.
Но больше всего меня поразили, казалось бы, безобидные «Охотники на привале». Огрубив детали и отрубив подробности, автор обнажил композицию, сведя ее к треугольнику рублевской троицы. Ее расположение — вплоть до склоненной головы среднего персонажа — повторяют три фигуры, объединенные столь же аскетической трапезой. Но это, конечно, не ангелы, а демоны с перекошенными от возбуждения лицами. Кровожадные боги охоты, они похваляются только что свершенным убийством на лоне покоренной ими природы.
Такого — языческого — Перова я никогда не видел, но надо признать, что всё это есть и в оригинале, — если, конечно, взглянуть на него непредубежденно, словно в первый раз. Что сделать непросто: передвижникам слишком повезло с критиками. Достоевский, с которым Перова иногда сравнивали, написал об охотниках патриотический абзац: «Один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется. Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски».
С Достоевским трудно не согласиться, потому что все мы знаем описанный им тип. От него же и знаем. Страсть к глубоко бессмысленному, бесполезному, даже опасному вранью составляет драгоценную художественную подробность русского духа. У меня был тесть-рыбак, который объявлял свой улов в центнерах. Соль — в масштабе. Гипербола превращает ложь в эпос: до забора, говорил Ноздрев, мое, и за забором — мое. Вдуматься только: такое ведь и Наполеону не снилось.
Однако к Перову всё это не имеет отношения. С чего мы, собственно, взяли, что охотник врет? Напротив, у нас есть все основания ему верить потому, что тут же, не отходя от кассы, представлены доказательства меткости: заяц и две утки, обитающие сразу в трех стихиях. Дичь и возвращает нас к заявленному художником сюжету.
Картина Перова вроде оптического фокуса, который прячет очевидное у всех на виду, зная, что мы норовим искать разгадку только в спрятанных деталях. Вот и здесь мы не замечаем того бесспорно главного, что Перов изобразил, да и назвал в подписи к своему полотну, — самих охотников. Между тем в них сосредоточен подспудный смысл полотна.
Охотник — ключевая фигура любой культуры. Он — трансформатор, переводящий пещерный обиход в цивилизованное хобби, промысел — в развлечение, необходимость — в роскошь. Суммируя нашу историю, начиная с мамонтов, охота служит наглядной формулой эволюции. Реликт первобытной демократии, она разрушает социальные преграды. Как война, охота всех уравнивает в правах и обязанностях. Поэтому в «Войне и мире» егерь в сердцах называет графа жопой. Поэтому лишь тогда, когда Тургенев взял ружье, ему удалось по-настоящему познакомиться с крестьянами. Поэтому все кандидаты в американские президенты, включая баптистского проповедника и немолодую даму, бахвалятся перед избирателями охотничьей добычей.
Значительность охотничьего мотива намекает на подлинную драму перовского полотна. Она, если присмотреться к этому таинственному холсту, вовсе не сводится к водевилю, каким поколения учителей тешили школьников.
Перов срифмовал свою картину с тремя видами живописи, которые друг с другом не сливаются, а стыкуются, причем так, что видны швы.
Задник отдан пейзажу — дикому, неочеловеченному, безнадежно холодному и неприютному. Это — зона доисторической природы, еще не тронутой нашей рукой. Здесь водятся птицы, но могли бы — и птеродактили.
В центре картина переходит в жанр, то есть, как тогда его определяли, в «сцену из текущей жизни». Участвующие в ней лица представляют три возраста и, судя по наряду, три сословия провинциальной России. Это мужик в армяке, мещанин в картузе и помещик, одетый в пальто на стеганой подкладке и обутый в английские — веллингтоновские — сапоги. Как положено в просветительской по происхождению передвижнической живописи, герои картины не только люди, но и типы. В театре таким дают говорящие фамилии.
Передний план Перов отвел натюрморту. Тщательно, по-голландски, выписывая мех и перья, художник демонстрирует выучку и рассказывает притчу. В ней изображен путь от живой природы к мертвой, который благодаря охотникам проделал зритель: было болото, будет ужин.
Перов, даже если и не вникать в сюжет, все равно окажется странным художником, ибо он, похоже, не любил краски. Критики писали, что «перовская палитра напоминала цветом овчинный полушубок», говоря по-нашему — дубленку. Одинаково ржавый колорит лишает природу наряда, а жизнь — праздника. Но именно такой невзрачный, как кухонное полотенце, мир проще любить. Он мало требует, ничего не обещает и уже потому дает то, на что другие не претендуют: уют знакомой, как бородатый анекдот или детская сказка, истории. Другим она неинтересна, а мы ее сто раз слышали.
Как раз этим она нам если и не дорога, то необходима. Оставшись напрочь неизвестным для чужих, Перов так намозолил глаза своим, что без него русская жизнь кажется невозможной — как без хлеба, без старых фильмов, без песен Исаковского.
Фольклором становится искусство, которое не поднимается над народом и не выходит из него, а растворяется в нем без следа. Именно это случилось с «Охотниками на привале», русской народной картиной, написанной внебрачным сыном остзейского барона Крюденера.

Васнецов
Русская троица
Будь я конем, картина «Богатыри» была бы мне иконой. Кони у Васнецова вышли лучше людей. Первые занимают на холсте больше места, чем вторые, и могут обойтись без всадников. Богатырские кони действительно сказочно красивы, причем той естественной красой, которой может похвастаться не всякая манекенщица. Не нуждаясь в сверкающих доспехах, они, как обнаженная прелестница в бархотке на картине Мане «Олимпия», обходятся легкой и элегантной сбруей: кожаной — на одной шее, золотой — на другой, с серебром — на третьей. То же — с прической. Убранные с деланой небрежностью гривы развеваются по ветру, как локоны Венеры. Умные, с тонкими чертами лица (не морды же), они смотрят туда же, куда всадники, — за раму. Но зритель чувствует, что лошади видят и понимают больше.
Оно и немудрено, если верить Юнгу, считавшему лошадь нашей внутренней матерью, аккумулятором интуиции, воплощением подсознательного знания, с которым не спорят, не соглашаются, а просто живут.
Конечно же, лошади Васнецова играют аллегорические роли, но справляются они с ними без натуги, с той грацией, с которой звери представляют самих себя на воле, а не в геральдическом зверинце.
Масть каждого коня определяет его происхождение: бурый — от бури, белый был облаком, вороной — ночью. Глядя на их волшебную стать, легко поверить, что они, как настаивают источники, кормятся огнем, несутся как птицы, говорят как люди — и только правду.
В богатырей поверить труднее. На первый взгляд они кажутся высланным в дозор передовым отрядом. Фокус, однако, в том, что за ними нет армии. Вернее — они и есть армия. Другой не нужно, ибо по мерке эпоса три богатыря равны одной орде.
В этом, собственно, суть геополитической грезы фольклора. На Руси, в стране, лишенной естественных границ в виде скал и морей, защитой должны служить заменяющие горы и похожие на них богатыри. Своими плечами они создают русские Фермопилы, мимо которых врагу ни пройти ни проехать. Это передвижная граница: та земля своя, где оставил след богатырский конь.
Васнецов, впрочем, оборонительную тактику предпочел атакующей. Его богатыри стоят, а не скачут. Их мощь — статичная, энергия — потенциальная, сила — непреклонная: попробуй сдвинь. Они — живая крепость. Поэтому другой архитектуры на холсте и нет. Разве что могильник, дающий понять, чем все кончается, когда никто не стоит на страже.
Чтобы увести зрителя в допотопную древность, Васнецов показывает, что богатыри защищают не село, не город, а пустой ландшафт. Родная география тут еще не стала историей, но уже намекает на нее.
На заднем плане — колыбель славян. Это дремучий лес, который, по словам Тацита, был варварам родиной, храмом и убежищем. Перед ним — чисто поле, готовое для сельского хозяйства. Это целина, ждущая сохи и зерна, чтобы дать всходы светлого будущего. О нем мы можем судить по вынесенным вперед елочкам-подросткам, трогательным в своей временной — пока не выросли — беззащитности. За такими деревьями уже нельзя разглядеть леса. В отличие от непроницаемой для врага и глаза чащи, тут растет роща — собрание особей, союз индивидуальностей, обладающих неповторимым убором ветвей и рисунком профиля.
В этой поучительной панораме расположились богатыри — в самом центре, то есть посредине. Выйдя из первобытных дебрей, они остановились на пороге истории, но не переступили его. За них это сделал Васнецов.
Современники видели великую заслугу Васнецова в том, что он спас отечественную живопись от опостылевшего жанра с его вечным «Кабаком у заставы». Вслед за прерафаэлитами, но независимо от них Васнецов решил заменить пошлую прозу народным вымыслом. Вместо «свинцовых мерзостей русской жизни» он хотел писать ее пестрые фантазии. Однако уже первые критики попрекали художника общим грехом русской школы — бескомпромиссным реализмом.
Дело в том, что сказка не бывает правдоподобной, былина — тем более. Эпические сказания, как учило модное тогда мифологическое направление, служили нашим предкам неточными, но убедительными науками. Туча стала великаном, солнце — героем, луна — героиней. Превращаясь в людей, явления природы перенимали их мотивы и внешность, но только отчасти. Поэтому искусство древних условно и универсально. Так, скифская баба обозначает сразу всё — это и жена, и мать, и сыра земля.
Но Васнецов слишком долго был передвижником. Его богатыри не столько сказочные, сколько исторические персонажи. Художник опрокинул эпос в психологию, снабдив каждого героя подробным, как в прозе, характером.
Пользуясь статичностью фронтальной композиции, где живой — один ковыль, художник дает нам вволю налюбоваться на своих богатырей, застывших в парадной позе, словно на снимке провинциального фотографа.
Илья Муромец рядом с ним как Власов или Жаботинский. Сила его пропорциональна весу и большому по тем временам росту (177 см — если судить по мощам в Печерской лавре). Будучи крестьянином по рождению и призванию, Илья — ядро обороны. Соответственно, он вооружен не мечом, как профессиональный воин Добрыня, а булавой, выигрывающей в эффективности за счет разборчивости.
Алеша Попович — слабое звено отряда. Он — начинающий герой, так сказать, комсомолец от богатырей. Еще не умея целиком отдаться ратному подвигу, Алеша занят своими мыслями. Взгляд — отсутствующий, поза — расслабленная, сам черняв. Да и снаряжение его сомнительно с точки зрения эпической доблести. Лук по Гомеру — неполноценное оружие, ибо стрела исключает отраду настоящего бойца: рукопашную.
Простодушный зритель может всего этого не заметить, ленивый — не знать, но каждый оценит крепкую мужскую дружбу трех богатырей.
Если Васнецов и не смог возродить фольклор, он сумел его породить. Картина «Богатыри» вернулась туда, откуда вышла, став источником устного народного творчества.
Больше всего анекдоту понравилось то, что богатырей — трое. Образуя симметричную, устойчивую, как пирамида, фигуру, они дополняют друг друга, составляя минимальный, но исчерпывающий любую ситуацию сюжет.
У каждого богатыря свое амплуа. Универсальное, неповторимое и расплывчатое, оно позволяет троице пускаться в любые приключения и выходить сухими из воды и целыми из схватки. В том числе и тогда, когда анекдот сталкивает трех богатырей с их галльскими братьями — тремя мушкетерами: Илью Муромца — с могучим простаком Портосом, Добрыню Никитича — с изящным Атосом, Алешу — со смазливым Арамисом, который тоже был своего рода поповичем.
В советской традиции васнецовские богатыри преобразились в трех незадачливых уголовников, которых замечательно воплотили на экране Вицин, Моргунов и Никулин.
В новой России богатырей опять принимают всерьез — младоязычники. Во всяком случае, в интернете, склонном поощрять любые отклонения, я нашел адептов культа трех богатырей, которым они поклоняются, как сказано в ссылке, «во всеславянском святилище Перуна, что стоит во Невограде (Санкт-Петербург), на святой горе между улицами Ярослава Гашека и Бухарестской».
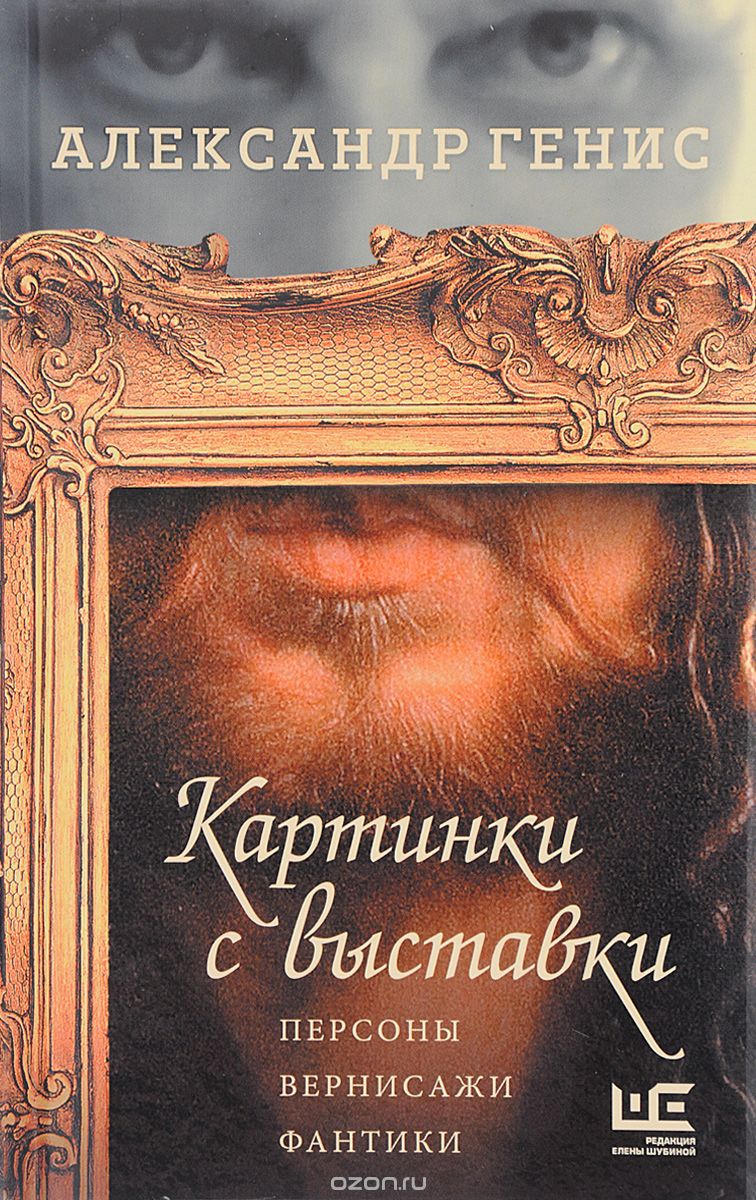
Купить книгу А. Гениса "Картинки с выставки"
"От моего дома полчаса езды до леса и до музея Метрополитен, и я не устаю этому радоваться. Не путая природу с искусством, я одина- ково люблю и то и другое, находя в них много общего. Мы знаем, что нас ждет в лесу и в музее, но всегда натыкаем- ся на непредвиденное и чудесное. И лес, и музей — альтернатива обычной жизни. Первый был до нее, второй — после. Один растворяет будни, другой перегоняет их, повышая градус, но оба дарят праздником. Поэтому мы можем бродить по галереям и тропинкам с одной и то же целью — отпустить вожжи и выбраться из обыденного, подставив себя под целительное излучение прекрасного. Зная и пользуясь этим методом всю жизнь, я собрал в книгу лучшие походы, дорогие открытия и яркие воспоминания. Собранные без всякого порядка очерки объединяет только внимание автора к увиденному — и испытанному. Я пишу лишь о том искусстве, которое радует и меняет меня. Критерий прост: если, покидая выставку слегка очумелым, вы видите мир немного иным, значит художник достиг цели. (Главное тут — не попасть под машину.)"
А. Генис

Александр Генис родился в Рязани (1953), вырос в Риге, живет (с 1977) в Нью-Йорке и горячо интересуется всем остальным миром, изрядная часть которого попала в егокниги. Не зря Милорад Павич назвал их "пульсирующим потоком взрывов". В его биографии - работа в легендарном "Новом американце", на Радио Свобода, ("Американский час"), авторская рубрика в "Новой газете", статьи в толстых журналах и колонки - в гламурных. Но больше всего, разумеется, книг, и для каждой Генис придумывает оригинальный жанр. Иногда это — лирическая культурология ("Вавилонская башня"), иногда — филологический роман ("Довлатов и окрестности"), иногда — теологическая фантазия ("Трикотаж"), иногда - искусствоведческие капризы ("Картинки с выставки"). Какими бы ни были его опусы, их объединяет кредо: писать густо и смешно, глубоко и просто.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

