Литературная кухня
ПопулярноУжин с Эйдельманом

Тогда все были живы. Я сидел за столом, ел пирожки и целый вечер слушал Эйдельмана. Шёл непредставимый 1986 год. Трудно объяснить теперь, как Москва несколько месяцев шушукалась, обсуждая переписку Эйдельмана с Астафьевым. И за вкусным столом собрались ради одного из авторов, имея, конечно, о теме переписки собственное мнение — гости были людьми заслуженными и мудрыми.
Только подумать — такая скудная переписка: два письма туда, одно оттуда! Постаревшие и неожиданно горячащиеся современники ещё вспоминают её, даже поспорить могут! Хотя привычная же тема: антисемитизм, ксенофобия, судорожные попытки объясниться с пренебрегающим тобой человеком. Такое желание всегда выглядит наивным, иногда — глупым, жалким и неумелым, но никогда — бесстрастным.
Эпизод, ставший довольно надолго событием в интеллигентской среде, тем не менее, почти стёрся. Почему я вспомнил? Из-за собравшихся за столом людей, даже незначащие слова которых не хочется вычеркнуть из моей жизни, пусть для других это был мимолётный эпизод. А, может, ещё оттого, что история не закончена, ведь переписка и споры вокруг неё — не примета времени, а штрих к вековечной беде.
В бескомпьютерные годы всё сколько-нибудь важное передавалось из уст в уста, а перепечатываемые на машинках тексты переходили из рук в руки и, как кровь, бежали неподцензурные слова по московским венам. Не до всех доходил тот поток, лишь до людей особенно восприимчивой породы, которой нет больше. Люди те растворились во времени, а с ними исчезла и шушукающая Москва.
А у меня в памяти красиво накрытый стол, застольные разговоры, шумная личность Эйдельмана и свои отчаянные молодые попытки соответствовать и понять чувства и аргументы собеседников. Позже, прочитав воспоминания вдовы историка, я осознал, что не надо пытаться самонадеянно проникать в чужую душу: многого я не знал, не разглядел. Догадываться, с чем кто жил — куда ни шло, но понять…
Тридцать с лишним лет назад это было. Восемь человек за столом, живы четверо. Хозяйка печёт пирожки с мясом, рулет с маком и сладкие плюшки, если остаётся тесто. Да, обычная была тема, потому что живём в России — евреи, грузины, армяне, казахи, корейцы — сколько ещё нас нерусских? Кто мы для России? Что для нас русская культура, история, литература? Кто мы в них? Ответ не один, да и примем ли мы единственный? Разве только история намекнёт, разглядев где-то вдали разбежавшихся по миру внуков и правнуков театрального критика Кугеля, поэта Сельвинского, историка Эйдельмана. Это так, но поди истолкуй ответ, выстрой цепочку аргументов!
Вот я в попытке найти смыслы связываю дедов и внуков: пришли инородцы в Россию, пожили, и нет их. Будто попросились люди переночевать, а хозяева пустить пустили, да потом сами же и озлобились на свою доброту, на гостей, ставших незваными, а заодно — на весь мир. Можно возразить: ничто в истории не связано вовсе! Но, если всё-таки есть нити, значит, найдутся в череде событий причины у следствий или даже Божий промысел, который, однако, историкам не по зубам. Учёные успешно исследуют мигрень императрицы и случившуюся по её причине войну, что тоже поучительно, но остальное — как желание разглядеть рисунок на песке и попытка увидеть на нём собственный след.
И вот инородец пишет ксенофобу, не спрашивая, отчего на Руси даже соседи часто чужие друг другу. Инородцу понятно: хоть триста лет живи рядом — своим не станешь. Ведь и соседняя деревня какая-то не такая! Разве можно принять, что весь мир похож на наш, да мы от него далеко?
А для ребёнка далёк и непостижим заоконный мир: в парке крутится карусель, только дед закрывает окно: «Шумно очень!» «Как юных тянет туда!» — хочет воскликнуть дед, но молчит. Дед — книгочей. Он говорит, что книга с ответами на его вопросы ещё не написана, хотя и вопросы давно поставлены, и ответы на них обычны. Старик задумывается, какие книги написал бы, если б умел, а внук канючит и рвётся из дома в жизнь.
Люди сидят за столом: рыбная перемена, мясная, салаты, пироги — так заведено в доме, и сменяющиеся гости садятся за бессменный стол. Вот тема для историка: постоянное в переменчивом мире, а константой становятся пирожки.
— Был я как-то в Ереване, — начал Марк. — По делам одного армянского писателя. Вечером, разумеется, пошли в ресторан, сидим — это как раз к сегодняшнему столу — по соседству гуляет большая компания. Человек во главе стола узнаёт моего армянина, зовёт к своему столу, мы знакомимся, и после застолья уважаемый человек приглашает нас к себе домой. Писатель мне кивает, даёт понять, что надо соглашаться, не пожалеем. Мы едем, входим в квартиру, хозяин исчезает в её недрах организовывать продолжение банкета, предлагая не скучать и пока ознакомиться с его библиотекой. Я тогда остолбенел: на полках стояли редчайшие книги на разных языках, инкунабулы, им не было цены, вернее, была, но невероятная! Когда мы вышли, писатель, ухмыляясь, объяснил: «Это директор городского рынка. Деньги вкладывает. У него на зарплате знатоки-библиографы и искусствоведы по всей стране, которые всё это находят. Сам он, разумеется, ни языков не знает, ни в книгах не разбирается, да, кажется, в жизни ни одной и не прочёл.
Вот так было когда-то в Ереване.
— А я однажды сам был армянином. Мне прислали приглашение на фамилию Эйдельмян, — ухмыльнулся обладатель чуть-чуть другой фамилии.
Все засмеялись, выпили. Марк, юрист, иногда барственно оделял чем-нибудь малоизвестным слушателей, вежливо изумлявшихся его знакомствам с интересными мира сего. Какая разница, был ли он действительно с ними знаком? В тот вечер Марк был словоохотлив. Рассказал ещё о том, как после смерти Константина Симонова, завещавшего развеять его прах над Могилёвом, где писатель отступал в 41-м, высокие власти заготовили знаменитому писателю место на Новодевичьем, а он, Марк, выкрал урну из крематория и волю покойного выполнил. Все переглянулись, пряча улыбки. Перешли к Шолохову, к авторству «Тихого Дона», к плагиату в начале его писательской карьеры. Шолохова за столом не любили и поговорили, каким он был антисемитом. Тогда Эйдельман рассказал о декабристах-евреях, бывших особенно в «Южном обществе» в немалом количестве. «Одного даже по первому разряду судили, — поведал историк. — А по второму и третьему многих! Книгу надо написать!» Но он не написал, не случилось.
— Кстати, Тоник, — спросил кто-то. — Зачем ты связался с Астафьевым?
Все посмотрели на Эйдельмана.
Я подумал сейчас: ведь сами письма-то никто не обсуждал, просто слыша в них привычный спор инородца с ксенофобом, за которым нет ничего, кроме непонимания одного и неприязни другого. Разве что кто-то из читателей стал по-иному открывать книги Астафьева, ведь по слову психолога Выготского «дело не в содержании, которое вложил в произведение автор, а в том, которое привносит в него читатель… Содержание является зависимой и переменной величиной».
Но прошло немного лет, астафьевский последний роман заслонил все вольные и невольные грехи писателя, только вот в 86-м непонятном году издан он ещё не был. У произведений Астафьева нынче другой читатель, книги его переменились.
Тогда за столом мне показалось, что историк на секунду задумался, как будто вдруг увидел, что все годы рассказывал не свою историю не своему народу. Он делал это замечательно, а потому разве имеет значение, какую тему выбрать? Или абсолютной уверенности в душе нет, свербит что-то, евреи-декабристы не просто так появились. Ведь для своего народа он времени не нашёл.
И опять у истории находится простой ответ, может быть, он есть всегда, и я слышу его в словах поминальной молитвы над могилой человека, которому не было нужды в молитве всю жизнь, и мать свою слышу, впервые её произносящую на незнакомом языке.
Ответы… Пусть истории мнится, что она подсказывает их! Знакомую нам историю сочинили пристрастные люди, создав ещё один извилистый роман. Потому к ней тоже применимы слова Выготского о привносимом читателем и переменчивом содержании.
И над всем этим:
— Тоник, зачем?
А в ответ:
— Селёдочку и грибы передайте, пожалуйста!
— Тебе положить салат?
— Да. Достаточно.
Пустеют блюда, хозяйка вносит новые, угощая без устали, и хозяин дома смеётся:
— Мой преподаватель, профессор Перетерский, однажды, даря мне свою книгу, передал с ней записку: «Извольте принять прилагаемую книжку, но не вздумайте отказываться или, ещё хуже, благодарить. Иначе я расскажу вам один факт из стародавних времён. Была у меня знакомая старушка — великолепная кулинарка и угостительнейшая хозяйка. И когда, будучи переполнен пищей, я отказывался от дальнейшего вкушения, она неизменно говаривала: кушайте же, всё равно выкидывать придётся!..»
В парке крутится карусель. На лавочке сидит старик, наблюдая за проносящимся над ним ребёнком, кричащим: «Эй, дед, смотри!»
— Я не могу написать мемуары, — думает старый человек. — О многом вспоминать слишком тяжело.
— Эй, дед, смотри, как я!
— А как ты? Ты родился там же, где и я, и почувствуешь ли, что «над нами варварское небо и всё-таки мы эллины»? Или растворишься, себя не осознав, под этим небом?
Ребёнок крутится на карусели. Старику вспоминаются и другие слова Мандельштама: «Отшумит век, уснёт культура, переродится народ… свежий ветер вражды и пристрастия современников заменяется унылым комментарием». Но повидал человек за долгую жизнь, что те же люди вновь и вновь рождаются на свет со своими неизменными пристрастиями и прежней враждой.
И вспомнил ещё хозяин дома, как однажды в начале 50-х он, семнадцатилетний, встретил на улице друга, а тот прошёл мимо, скользнув пустыми глазами по неузнаваемому вдруг лицу. От той встречи остались беспомощные подростковые строки:
Друг стыдливо отводит взор,
Друг за шкуру свою дрожит —
Будто я заклеймённый вор
И железом выжжено — жид.
Можно рассказывать про те времена, можно поставить любую дату.
Вражда и пристрастия современников сменяются враждой и пристрастием потомков, меняются разве что декорации. В одной из неизменных мизансцен нашлось место историку Эйдельману. Он признался тогда за столом, что помнит, как в детстве, осознав себя инородцем на этой земле, хотел стать точкой, никем и спросил родителей: «Почему я другой?» И, получив не устроивший его ответ, неужели оставалось всё возненавидеть, запрезирать, не знать, как жить дальше? Но всё-таки он стал жить, может быть, чувствуя, что ответить на вопрос «зачем, Тоник?» когда-нибудь будет совсем просто. Потому что «Тоник» отвечал на этот вопрос от юности до старости. И ещё потому, что только он один написал эти письма.

Михаил Вирозуб, член Союза писателей Москвы. Автор книг стихов "Дикобраз" (М.,1994), "Наблюдения за жизнью" (М.,Время, 2010), переводчик в основном английской и американской поэзии (участник антологии "Семь веков английской поэзии", М., "Водолей", 2006), книг сказок и стихов Л.Ф.Баума (издательство "Текст" в 2010 и 2013 гг). Стихи, переводы, статьи печатались в журналах "Знамя", "Новом журнале", "Новой Юности", "PROSODIA" и др.
Текст писем:
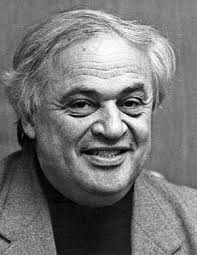
Письмо Эйдельмана Астафьеву, 24 августа 1986г.
Уважаемый Виктор Петрович!
Прочитав все, или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде представлюсь.
Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930г. рождения, еврей, москвич. Отец в 1910г. исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу, затем журналист (писал о театре), участник I мировой Отечественной войны, в 1950-55гг. сидел в лагерях; мать — учительница; сам же автор письма окончил МГУ, работал много лет в музее, школе, специалист русской истории XVII-XIX веков (Павел I, Пушкин, декабристы, Герцен). Ряд пунктов приведенной "анкеты" Вам, мягко говоря, не близок — да ведь читателя не выбирают.
Теперь же позволю себе высказать несколько суждений о писателе Астафьеве. Ему, думаю, принадлежат лучшие за многие десятилетия описания природы ("Царь-рыба"), в "Правде" сказал о войне, как никто не говорит. Главное же — писатель честен, не циничен, печален, его боль за Россию — настоящая и сильная: картины гибели, распада, бездуховности — самые беспощадные.
Не скрывает Астафьев и наиболее ненавистных, тех, кого прямо или косвенно считает виноватыми. Это — интеллигенты-дармоеды, "туристы", те, кто орут "по-басурмански", москвичи, восклицающие "вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене", наконец, инородцы. На это скажут, что Астафьев не ласкает также и своих русских крестьян, городских обывателей.
Как доходит дело до "корня зла", обязательно все же появляется зловещий Гога Герцев (имя и фамилия более чем сомнительные: похоже на Герцен, а Гога после подвергнется осмеянию в связи с Грузией). Страшна жизнь и душа героев ("Царь-рыба"), но все же Гога куда хуже всех пьяниц и убийц вместе взятых, ибо от него вся беда…
Или по-другому: голод, распад, русская беда — а тут "было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсе он был один, а в Грузии другой, похожий на того, всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут "копеечная душа", везде он распоясался, везде с оттопыренными карманами, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилемание, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно видеть одышливого Гогию, восьми лет отроду, всунутого в джинсы, с сонными глазками, утонувшими среди лоснящихся щек (рассказ "Ловля пескарей в Грузии", ж-л "Наш современник", 1986, №5, с.125)
Слова, мною подчеркнутые, несут большую нагрузку: всем надоели кавказские торгаши, "копеечные души", т.е., иначе говоря, у всех у нас этого нет, только у них: за счет бедных ("доверчивых") северян жиреет отвратительный Гогия (почему Гогия, а не Гоги?)
Сила ненавидящего слова так велика, что у читателей не должно возникнуть сомнений: именно эти немногие грузины (хорошо известно, что торгует не более 1 процента народа) — в них особое зло и, пожалуй, если бы не они, доверчивый северный народ ел бы много отнюдь не подгнивших фруктов и не испытывал бы недостатка в прекрасных цветах.
"Но ведь тут нет правды" — воскликнет иной простак,- есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии.
Разумеется, не против: но вдруг забыл (такому мастеру не простительно), что крупица правды, использованная для ложной цели в ложном контексте — это уже кривда и, может быть, худшая.
В наш век, при наших обстоятельствах, только грузины и могут так о себе писать, или еще жестче (да, кстати, и пишут — их литература, театр, искусство, кино не хуже российского), подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского застольного меда. Пушкин сказал: "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделит со мной это чувство". Стоит же задуматься: кто же презирает, кто же иностранец?
Однако продолжим. Почему-то многие толкуют о "грузинских обидах" по поводу цитированного рассказа: ведь в нем находится одна из самых дурных безнравственных страниц нашей словесности: "По дикому своему обычаю, монголы в превосходных церквах устраивали конюшни. И этот длинный и суровый храм (Гелати) они тоже решили осквернить: загнали в него мохнатых лошадей, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей тут же, в храме, и пьяные от кровавого разгула, они посваливались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят храмы вечные" (там же, стр.136).
Что тут скажешь? Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы тут вспомнить других монголоидов-калмыков, крымских татар, как их в 1944 году из родных домов, степей, гор "раскосыми мордами в дерьмо"… Чего тут рассуждать? Расистские строки. Сказать по правде, такой текст, вставленный в рассказ о благородной красоте христианского храма Гелати, выглядит не меньшим кощунством, чем описанные в нем надругательства.
170 лет назад монархист, горячий патриот-государственник Николай Михайлович Карамзин, совершенно не думавший о чувствах монголов и других "инородцев", иначе описал Батыево нашествие, перечислив ужасы завоевания (растоптанные конями дети, изнасилованные девушки, свободные люди, ставшие рабами у варваров, "живые завидуют спокойствию мертвых"), ярко обрисовав это, историк-писатель, мы угадываем, задумался о том, что, в сущности, нет дурных народов, а есть трагические обстоятельства, и прибавил удивительно честную фразу: "Россия испытала тогда все бедствия, претерпенные Римской империей… когда северные дикие народы… громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют между собой только в силе". Карамзин, горюющий о страшном несчастье, постигшем его родину, даже тут опасается изменить своему обычному широкому взгляду на вещи, высокой объективности: ведь ужас татарского бедствия он сравнивает с набегами на Рим "северных варваров", среди которых важнейшую роль играли древние славяне, прямые предки тех, кого громил и убивал Батый.
Мало этого примера, вот еще один! Вы, Виктор Петрович, конечно, помните строки из "Хаджи-Мурата", где описывается горская деревня, разрушенная русской армией: "Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так, чтобы воды нельзя было брать из него. Также загажена была мечеть… старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми, и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их было таким естественным чувством, как чувство самосохранения".
Сильно написал Лев Николаевич. Ну, а если вообразить эти строки, написанные горцем, грузином, "иностранцем"?
С грустью приходится констатировать, что в наши дни меняется понятие народного писателя: в прошлом — это, прежде всего, выразитель высоких идей, стремлений, ведущий народ за собой; ныне это может быть и глашатай народной злобы, предрассудков, не понимающий людей, а спускающийся вместе с ним.
На этом фоне уже не пустяк фраза из повести "Печальный детектив", что герой в пединституте изучает Лермонтовские переводы с немецкого вместе с "десятком еврейчат". Любопытно было бы только понять, к чему они в рассказе, если ни до, ни после больше не появляются? К тому, может быть, что вот где в городе развивается странный печальный детектив. Десяток инородцев (отчего десяток?), видно, все в пединститут сконцентрировались? Как видно, конкурс для них особенно благоприятный? Эти люди заняты своей ненужной деятельностью? И тут обычная Астафьевская злая ирония насчет литературоведения: "Вот де "еврейчата" доказывают, что Лермонтов портил немецкую словесность, а сами-то хороши?" Итак, интеллигенты, москвичи, туристы, толстые ноги, Гоги, Герцевы, косомордые, "еврейчата", наконец, дамы и господа из литфондовских домов, на них обрушивается ливень злобы, презрения, отрицания, как ни на кого иного. Они хуже всех. А если всерьез, то Вам, Виктор Петрович, замечу, как читатель, специалист по русской истории, Вы (да и не Вы один!) нарушаете, вернее, очень хотите нарушить, да не всегда удается — собственный дар мешает — главный закон российской словесности и российской мысли. Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до сторонних объяснений, винить себя, брать на себя, помнить, что нельзя освободить народ внешне более чем он свободен изнутри. Любимое Л.Толстым изречение Герцена.
Что касается всех личных общественных и народных несчастий, то, чем сильнее и страшнее они, тем в большей степени их первоистоки находятся внутри, а не снаружи. Только подобный нравственный подход ведет к истинному высокому мастерству. Иной взгляд — самоубийство для художника, ибо обрекает его на злое бесплодие. Простите за резкие слова — но вы сами своими сочинениями учите подходить без прикрас.
С уважением, Н.Эйдельман. 24 августа 1986г.
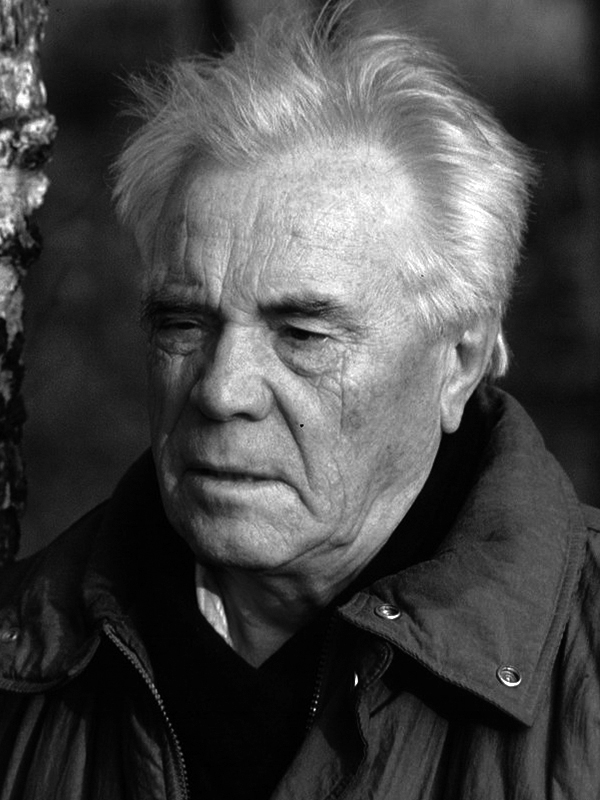
В.П.Астафьев — Н.Я.Эйдельману
"Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши, врага не наживешь".
Русская пословица
Натан Яковлевич!
Вы представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа. Но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге — совсем другое. У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги.
Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни и танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам "Эсперанто", "тонко названном литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы может дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут русские тоже. И жутко подумать — собрания сочинений и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберем к рукам". И, о ужас! О кошмар! Сами прокомментируем "Дневники" Достоевского. Нынче летом умерла под Загорском тетушка моей жены, бывшая вместо матери. Пред смертью она сказала мне, услышав о комедии, разыгранной грузинами на съезде: "Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится".
Последую ее совету. На Ваше черное письмо, переполненное не только злом, а перекипевшим гноем еврейского, высокоинтеллектуального высокомерия, вашего, привычного уже "трунения", не отвечу злом. Хотя мог бы, кстати, привести цитаты, и в первую голову из Стасова, насчет клопа, укус которого не смертелен. Но… Лучше я разрешу Ваше недоумение, недоумение русских евреев по поводу слова "еврейчата", откуда, мол, оно взялось, мы его слыхом не слыхали?!
"…Этот Уликовский был из числа тех панов, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было несколько и жиденят…" (Н.Эйдельман "История и современность в художественном сознании поэта", с.339). На этом я кончу, пожалуй, хотя цитировать мог бы многое. Полагаю, что память у меня не хуже Вашей, а вот глаз зрячий один, от того я пишу на клетчатой бумаге, по возможности кратко.
Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Что же Вы, старый человек, в душе то носите?! Какой груз зла и ненависти клубится в Вашем чреве? Хорошо, что хоть фамилией своей подписываетесь, не предаете своего отца. А то вон, не менее чем Вы, злой, но совершенно ссученный атеист — Иосиф Аронович Крывелев — и фамилию украл, и ворованной моральной падалью питается. Жрет со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми.
Пожелаю Вам то же, что пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в "Евангелие" - "Господь! Прости нашим врагам. Господь, прими их в объятия". И она, и сестры ее, обезноженные окончательно в ссылке, и отец с матерью, расстрелянные евреями и латышами, которых возглавлял отпетый махровый сионист Юрковский.
Так что Вам, в минуты утешения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях Вы находились за преступления Юрковского и иже с ним, маялись по велению "Высшего сердца", а не по развязности одного Ежова.
Как видите, мы, русские, еще не потеряли памяти, и мы еще народ "Большой" и нас еще мало убить, но надо и повалить…
За сим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог!
14.09.1986г. с.Овсянка. За почерк прощения не прошу — война виновата.
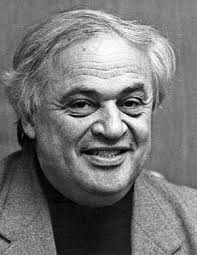
Н.Я.Эйдельман — В.П.Астафьеву
Виктор Петрович!
Желая оскорбить — удручили. В диких снах не мог вообразить в одном из "властителей душ" столь примитивного, животного шовинизма, столь элементарного невежества. Дело не в том, что расстрелом царской семьи (давно установлено, что большая часть исполнителей была екатерининбургские рабочие) руководил не "сионист Юрковский", а большевик Юрковский (сионисты преследовали, как Вам, очевидно, известно, совсем иные цели — создание отдельного еврейского государства в Палестине); но дело не в том, что ничтожный Крывелев носит, представьте, собственную фамилию (как и множество столь же симпатичных "воинствующих безбожников" разных национальностей), дело даже не в логике "Майн Кампф" о "наследственном национальном грехе" (хотя если мой отец сидел за "грех Юрковского", тогда Ваши личные беды, выходит, плата за разделы Польши, унижение инородцев, еврейские погромы и прочее). Наконец, дело не в том, что Вы оказались неспособны прочесть мое письмо, ибо не ответили ни на одну его строчку (филологического запроса о происхождении слова "еврейчата" я не делал, да Вы, кстати, ведь заменили его в отдельном издании на "вейчата" — неужели цензуры забоялись?)
Главное: найти в моем письме много зла можно было лишь в цитатах — Ваших цитатах, Виктор Петрович, быть может, обознавшись, на них обрушились? Несколько раз, елейно толкуя о христианском добре, Вы постоянно выступаете неистовым "око за око" ветхозаветным иудеем. Подобный тип мышления и чувствования — уже есть ответ о причинах русских и российских бед: "Нельзя освободить народ внешне более, нежели он свободен изнутри".
Спор наш (если это спор) разрешится очень просто: если сможете еще писать хорошо, лучше, сохранив в неприкосновенности нынешний строй мыслей, тогда — Ваша правда! Но ведь не сможете, последуете примеру Белова, одолевшего-таки злобностью свой дар и научившегося писать вполне бездарную прозу (см. его роман "Все впереди"- "Наш современник", 1986, №7-8).
Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем. Главный Ваш ответ — собственный текст, копию которого — чтоб не забыли! — возвращаю. 28 сентября 1986г.
Соломон Волков: «Пушкин — наше всё, но я бы не хотел быть его соседом»
Смерть Блока
Роман Каплан — душа «Русского Самовара»
Александр Кушнер: «Я всю жизнь хотел быть как все»
Наум Коржавин: «Настоящая жизнь моя была в Москве»
Этери Анджапаридзе: «Я ещё не могла выговорить фамилию Нейгауз, но уже
Поющий свет. Памяти Зинаиды Миркиной и Григория Померанца
Покаяние Пастернака. Черновик
Камертон
Борис Блох: «Я думал, что главное — хорошо играть»
Возвращение невозвращенца
Смена столиц
Земное и небесное
Катапульта
Стыд
Первое немецкое слово, которое я запомнила, было Kinder
Ефим Гофман: «Синявский был похож на инопланетянина»
Встреча с Кундерой
Парижские мальчики
Мария Васильевна Розанова-Синявская, короткие встречи

